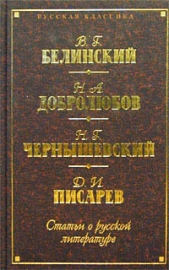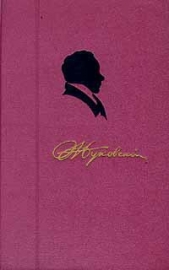Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
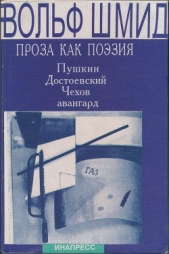
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард читать книгу онлайн
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Повести Белкина» можно читать двояко. Их можно читать прозаически — как читается проза, т. е. быстро, поддаваясь уносящему читателя нарративному течению, с устремленностью на цель–развязку. Или же так, как читается поэзия, т. е. медленно, останавливаясь на отдельном слове, прислушиваясь к нему, осмысляя его как в фигуральном, так и в буквальном значениях, обращая внимание на развертывание паремий и тропов, пространственно, погружаясь в глубину подтекстов и, наконец, постоянно возвращаясь к эквивалентным мотивам того же самого текста и чужих текстов.
«Повести Белкина» основаны на парадоксе: именно их поэтическая стихия, заставляющая читателя воспринимать текст пространственно и накапливать разнородные семантические потенциалы, выявляет ту прозаичность, которая существует в мнимой поэтичности исхода действия. Такую скрытую прозаичность, которую раскрывает только поэтическое чтение текста, мы уже обнаружили в «Выстреле». Семантический потенциал, накапливаемый в многочисленных эквивалентностях и в развертывающихся паремиях, позволяет увидеть в Сильвио, литературнообразцовом романтическом герое, черты робкого пьянчуги. [68]
Для того чтобы показать парадокс «Повестей Белкина» еще на одном примере, мы обратимся к центральной сцене «Станционного смотрителя». Вырину, который, как евангельский вор и разбойник, насильственно пробрался во двор овний, суждено стать свидетелем поэтичного tête–à-tête своей «заблудшей овечки» с волком:
«В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы» (104).
В то время как ревнивый отец видит в этой сцене только поэзию чужого счастья, для внимательного читателя краска поэтичности на глазах облупливается, обнаруживая прозу любви. Это происходит от восприятия нами скрещивающихся в этом месте линий указанных трех поэтических приемов.
Во–первых, сопоставление сидящей верхом на ручке кресла элегантной дамы с деревенской красоткой, смирявшей сердитых путешественников, напрасно требовавших лошадей, выявляет, кто стал хозяином положения. [69]
Во–вторых, в описании картины смелой наездницы, наматывающей кудри любовника на свои пальцы, думается, можно увидеть спрятанную здесь поговорку «обвести» (или «обернуть») кого‑то «вокруг пальца». Не намек ли это на некоторую активность самой Дуни?
В–третьих, картина наездницы на ручке кресла задумчивого мужчины перекликается с поразительно похожей сценой из вышедшего в 1829 году в свет трактата Бальзака «La Physiologie du mariage ou Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal» (Méditation
X: «Traité de politique maritale»). [70] Героиня Бальзака сначала тщетно просит у мужа алмазный крест (нет денег). Но когда она появляется на балу, на ее груди «сверкает» (scintillait) драгоценный крест. О Дуне, сидящей верхом, сказано, что ее пальцы «сверкающие» (104). Она, очевидно, достигла своих целей так же ловко, как героиня Бальзака.
В мнимой поэзии любви, разжигающей ревность отца («Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною», 104), читатель должен обнаружить вполне прозаические черты.
Разбираемых примеров достаточно, чтобы показать парадокс «Повестей Белкина». Прозаическое чтение новелл (само по себе вполне допустимое) осуществляет только лежащее на поверхности текста осмысление в русле литературно–поэтических штампов. Чтение же поэтическое способно уловить те новые, неожиданные смыслы, которые заключаются в прозаическом взгляде на мир, в изображении многоликой прозы жизни.
ДОМ–ГРОБ, ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ И ПРАВОСЛАВИЕ АДРИЯНА ПРОХОРОВА
О поэтичности «Гробовщика» [71]
Поэтичность новеллы
В определениях новеллы, многочисленных и разнообразных, чаще всего встречаются такие жанрообразующие признаки, как событийность, краткость, сжатость, символичность, семантическая насыщенность. [72] Самое скромное место в этом ряду занимает, как правило, краткость. Однако величина текста, его протяженность, как показал Ю. Тынянов, не только обеспечивает (как «черта вторичная») «сохранение жанра», а также, будучи «вначале понятием энергетическим», «в некоторые исторические периоды определяет законы конструкции» [73]. Как бы мы ни рассматривали длину текста: как фактор, обусловливающий смысловую конструкцию, или как фактор, обусловливаемый некоей «формой содержания» [74], соотнесенность, связь между краткостью и построением действия бесспорна. Связь эта опосредована определенной организацией текста, которую следует, думается, называть поэтической. Наряду с общепризнанным мнением о том, что «преобладание действия делает новеллу наиболее эпическим из всех эпических жанров», что новелле свойственны элементы драматизма [75], необходимо определить новеллу с точки зрения построения ее текста как наиболее поэтический жанр повествовательной прозы. Более осторожно можно говорить о том, что для новеллы особенно характерна тенденция к вплетению поэтических приемов в основную прозаическую, нарративную канву текста.
Поэтическое здесь понимается как конструктивный принцип, определяющий то полушарие литературного мира, которое в русском модернизме называлось «словесным искусством». [76] Поэтичность же новеллы сказывается прежде всего в таких приемах [77], как:
— парадигматизация (введение в текст на всех различаемых уровнях эквивалентностей, т. е. сходств и противопоставлений);
— тектоника, геометричность построения действия и текста (в силу применения парадигматизации к топосам рассказываемой истории, наррации и дискурса) [78];
— отмена немотивированности знака по отношению к обозначаемому (приводящая к принципиальной иконичности всех формальных упорядоченностей);
— двоякая (буквальная и переносная) значимость всех слов, прежде всего речевых клише;
— сюжетное развертывание и распластывание семантических фигур (метафора, оксиморон, парадокс и др.) и паремий (пословицы, поговорки, приговорки и др.);
— повышение значимости и высвобождение семантического потенциала отдельных словесных или тематических мотивов в силу их включенности в разного рода интертекстуальные связи. [79]
Поэтичность и психология
«Первенец» русской новеллы — «Гробовщик». Из всех «Повестей Белкина» эта новелла — самая короткая, самая загадочная, быть может, самая богатая по содержанию, самая прозаичная по изображаемому миру и, в то же время, самая поэтичная по структуре. Текст пронизан сетью перекличек, как тематических, так и звуковых. Характер событийности определяется контрастами, возникающими в разных планах — в ситуационном, лексическом и ритмо–фоническом. Сюжет организуется двойным контрастом — между началом и концом, с одной стороны, и между сном и явью, — с другой. В то же самое время сон, отражающий явь, является ее продолжением, в котором осуществляются все дневные желания. Рассказываемая история и отдельные ее мотивы отсылают читателя к разным подтекстам, на фоне которых мотивные пробелы пополняются, а имеющиеся мотивы семантически прирастают. Завязка основывается на превращении семантической фигуры, которое обнаруживается и в развертывании таких речевых клише, как поговорка и приговорка. Развязка предвосхищается пословицей, сбывающейся в движении сюжета с метонимическим сдвигом и в переносном смысле.