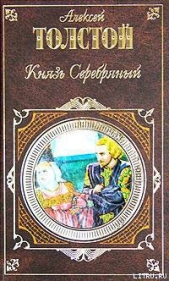Поэтика за чайным столом и другие разборы
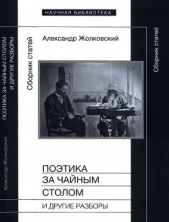
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вещи и люди нас Окружают <…> Но лучше мне говорить <…> О вещах, а не о Людях. Они умрут <…> Вещи приятней. В них Нет ни зла, ни добра <…> Вещь можно грохнуть, сжечь, Распотрошить, сломать. Бросить. При этом вещь Не крикнет: «Ебена мать!» (Бродский, «Натюрморт», 1971).
Эту-то традицию и подхватывает автор «Сахарницы», но с учетом опыта Анненского и его последователей.
2. Интертексты актуализуют и упражняют культурную память. Пушкинская Ольга дана впрямую, а за строками Иначе было б жаль ее невыносимо и Не хочет ничего, не помнит ни о ком под сурдинку слышатся:
Ломоносов: Кузнечик дорогой <…> Хотя у многих ты в глазах презренна тварь <…> Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! <…> везде в своем дому, Не просишь ни о чем, не должен никому;
Лермонтов: Жду ль чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть;
Есенин: И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — Пройдет, зайдет и вновь покинет дом;
Пастернак: Они не помнят безобразья, Творившегося час назад <…> На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего; В сухарнице, как мышь, копается анапест, И Золушка, спеша, меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти — ни крошки.
Вдвойне воспоминательно, ибо еще и автореминисцентно, само заглавие[297]. У Кушнера есть более ранняя «Солонка» (1966) — о солонке Державина как своего рода пропуске к нему. Есть также «Готовальня», «Графин», «Стакан», «Ваза», «Фотография», «Пластинка»…
Не все отсылки одинаково адресны. Так, в строке Среди иных людей, во времени ином налицо скорее обобщенная опора на сходные формулы с повтором слова иной:
Пушкин: И сам, покорный общему закону <…> глядел На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, иные волны; Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы; Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода; …я знал, нельзя при ней Иную замечать, иных искать очей.
Огарев: Среди иных воспоминаний, Среди своих родных преданий, И образы тут вспомнил он Иных людей, иных сторон.
Пушкинская Ольга, на первый взгляд, привлечена только ради строки Умершим не верна, родной забыла дом. Но «негромким» образом в «Онегине» находятся соответствия и многому другому, в частности настойчивой вопросительности финала и эффектному Заплакала?:
Не долго плакала она <…> Своей печали неверна. Другой увлек ее вниманье, Другой успел ее страданье Любовной лестью усыпить <…> Смутился ли, певец унылый, Измены вестью роковой, Или <…> Уж не смущается ничем <…> Так! равнодушное забвенье За гробом ожидает нас;
[Татьяна] Сидит, не убрана, бледна… Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой.
Посмертную измену Ольги интертекстуально оркеструют в «Сахарнице» более острые интонации классических строк о разрывах прижизненных:
Цветаева: Как живется вам с другою, — Проще ведь? <…> Скоро ль память отошла Обо мне..? Как живется вам с чужою <…> Как живется, милый? Тяжче ли, Так же ли, как мне с другим?;
Есенин: Вы помните, Вы всё, конечно, помните <…> Теперь года прошли. Я в возрасте ином. И чувствую и мыслю по-иному <…> Я знаю: вы не та — Живете вы С серьезным, умным мужем <…> И сам я вам Ни капельки не нужен.
3. Вернемся к главному фокусу стихотворения — одушевлению и обвинению сахарницы, вещи довольно инертной — в отличие от таких потенциально действенных предметов, как кинжал, перо, чернильница, талисман, шарманка, часовой маятник, наконец, статуя. Накачивание сахарницы жизнью начинается с первой же строки (Как… живет… скучает ли? — в стиле справок об уехавшем знакомом) и не ослабевает до конца (не верна, забыла, жаль ее, заплакала, просыпала). Оно то проходит намеком (на ее якобы недовольство уровнем якобы понятых ею разговоров), то дает яркий животный образ: на четырех подогнутых ножках и с брюшком.
Условность одушевления позволяет мотивировать — извинить — мертвенное равнодушие вещи. В финале этот контрапункт обнажается (А что бы я хотел?), но не снимается полностью, ибо подспудно на вещь проецируются претензии поэта к хозяевам дома и самому себе (в частности — лексической перекличкой с Не хочет ничего…).
Образцы такого двойного метафорического хода, туда и обратно, Кушнер мог найти у Анненского, в частности в «Старой шарманке» (кстати, выделенной Гинзбург в качестве одного из его вещных шедевров; см.: Гинзбург 1974 [1964]: 335), ср.:
Лишь шарманку старую знобит, И она в закатном мленьи мая Все никак не смелет злых обид, Цепкий вал кружа и нажимая. И никак, цепляясь, не поймет Этот вал, что ни к чему работа, Что обида старости растет На шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, Что такая им с шарманкой участь, Разве б петь, кружась, он перестал Оттого, что петь нельзя, не мучась?
Адресатка же постепенно исчезает из текста, как бы забывающего о ней. I строфа открыто обращена к Гинзбург, хотя и в режиме ее отсутствия (без вас), во II о ней напоминает лишь отчужденное здесь, а в III — все так же и там, тоже со «здешней» точки зрения «я» и сахарницы, и в IV остаются уже только они. Но «я» все-таки пытается наладить контакт с покойной — через сахарницу-медиума. Этот контакт не только весом физически и морально (тяжелую, как сон), но и выявляет, наконец, «подлинные» чувства вещи, по-прустовски аккумулировавшей всю драму памяти/забвения. Ее волненье отрицается таким образом, что предстает, наоборот, реальным: ведь обсуждается не его наличие, а отказ его выдать. (Не забудем, что одним из извиняющих соображений является невыносимая жалость к покинутости сахарницы после смерти ее владелицы.) «Я» проговаривается о подавленных чувствах — сахарницы и собственных. Но именно подавленных: сахарница не плачет (характерная кушнеровская концовка: слезы не проливаются), «я» ее не роняет (а как иначе могла бы она просыпать сахар?!), протянутую руку забирает назад, взгляд отводит, — вторя ее забывчивости.
Эти реакции подчеркнуто сдержанны — в отличие от тоже воображаемого, но предельно агрессивного, вплоть до деструктивности, напоминания «я» о себе в последнем известном стихотворении Цветаевой (написанном в ответ на стихи Арс. Тарковского):
Ты стол накрыл на шестерых <…> Чем пугалом среди живых — Быть призраком хочу — с твоими, (Своими) <…> За непоставленный прибор Сажусь незваная, седьмая. Раз! — опрокинула стакан! И все, что жаждало пролиться, — Вся соль из глаз, вся кровь из ран — Со скатерти — на половицы. И — гроба нет! Разлуки — нет! Стол расколдован, дом разбужен. Как смерть — на свадебный обед, Я — жизнь, пришедшая на ужин.
(«Все повторяю первый стих…»; 1941)[298]
Завершает мини-драму памяти у Кушнера песок, сахарный, но каламбурно чреватый вечностью, забвением.
4. Говоря о драме, стоит подчеркнуть, что в отличие от многих стихов о вещах (в частности, Г. Иванова, Шефнера, Бродского) «Сахарница» сюжетна в буквальном смысле слова. Лирическое «я» не вообще медитирует о судьбе вещей, а делает это в ходе общения с конкретной вещью, принадлежавшей его конкретной знакомой, повествует об однократном событии, вспоминает о более давних и задумывается об альтернативных, тоже конкретных: