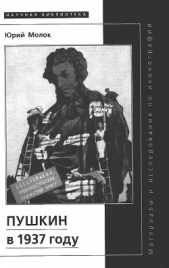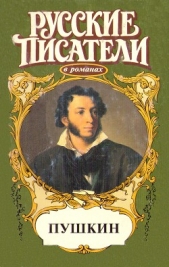В союзе звуков, чувств и дум

В союзе звуков, чувств и дум читать книгу онлайн
Книга Я. М. Смоленского «В союзе звуков, чувств и дум» адресован» многочисленным читателям, для которых пушкинские произведения - неотъемлемая часть духовной жизни.
Многолетний опыт чтеца-исполнителя помог автору взглянуть на пушкинское наследие изнутри, говорить о его творческой лабораторий как бы от лица самого автора.
Значительная часть книги посвящена роману «Евгений Онегин», его современному прочтению. Второй раздел посвящен «маленьким трагедиям», проблеме их сценического воплощения. В третьем разделе автор прослеживает пушкинские традиции в русской поззии, в частности, у Маяковского, Блока и некоторых современных поэтов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Далее. Возьмем стихотворение Пушкина «Прозаик и поэт».
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!
Характерно, что «завострение» мысли «с конца» непосредственно связывается здесь с «летучей рифмой», то есть острота мысли и острота конечной рифмы - неразрывны. Во многих пушкинских стихотворениях (не говорю уже об эпиграммах) концовка оборачивается афоризмом, каламбуром, одним словом - «завострением». Может быть, наиболее поучительны в этом отношении последние двустишия едва ли не половины всех онегинских строф.
...Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.
. . . . . . . . . . . . . .
...Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.
. . . . . . . . . . . . . .
...Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.
И т. д. и т. д.
Вот мысли по поводу концовок из статьи Маяковского «Как делать стихи»: «...Одним из серьезных моментов стиха... является концовка». В ней, говорит поэт, должны быть собраны «удачнейшие строки стиха». В качестве примера он показывает длительный процесс своей работы над концовкой стихотворения «Сергею Есенину». Она, как известно, является перифразой очень сильного финала предсмертных стихов самого Есенина. Я процитирую знакомые всем строки Есенина и Маяковского, потому что очень уж отчетливо проглядывает здесь пушкинская традиция «оперения» рифмой мысли, «завостренной» с конца.
У Есенина:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
У Маяковского:
...Для веселия планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
«Понимая рифму широко», выводя ее из классических канонов и вводя не только в середину, но и в начало стиха (Ох, эта - хохота), Маяковский остается верным пушкинской традиции по отношению к последним рифмам стихотворения.
И еще один, широко распространенный у Маяковского признак стиха, который имеет свойство «дразнить» «мысль, мечтающую на размягченном мозгу», берет свое начало в поэзии Пушкина. Его можно условно назвать так:
«ГРУБЫЕ СЛОВА»
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! . . . . . . .
Каждому известна эта строфа из гениального стихотворения Пушкина «Телега жизни». Те слова, что скрываются в печати за черточками или точками, мало для кого являются тайной... Насколько мне удалось заметить, при молчаливом воспроизведении этих слов, на устах у читателя не появляется игривая улыбка. Потому что смысл стиха далек от игривости. В его контексте непечатная половина строки воспринимается поистине, как слово, которое из песни не выкинешь. Тут, если и уместна улыбка, то смешанная с грустью и невольным изумлением перед возможностью поэтически выразить в шестнадцати строках то, на что потребовался бы философский трактат.
Зато мы весело смеемся, читая эпиграммы, в которых рифмы типа той, что подобрана к «Европе», - тоже не для печати.
Однако ни в одном из этих случаев нам не приходит в голову обвинить Пушкина в непристойности: поэтический блеск, остроумная мысль перекрывают все, что могло бы показаться слишком фривольным. Но припомним, что писал сам Пушкин в «Опровержении на критику»: «Граф Нулин» наделал мне больших хлопот. Нашли его (с позволения сказать) похабным, - разумеется в журналах, в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! как сметь писать такие отвратительные гадости?..
Эти г.г. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая - и все, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным е. . с! как будто литература и существует только для 16-летних девушек!»34
Не правда ли, нам трудно представить себе такой поворот критической мысли по поводу «Графа Нулина»? Нужно недюжинное усилие воли и воображения, чтобы перенестись на полтора века назад и попытаться понять точку зрения критиков, которым отвечает поэт.
Пушкин подвергался нападкам со стороны ревнителей «чистой» поэзии не только за «похабный» эпизод в спальне, но и за то, что ввел в свои стихи живых баб и мужиков вместо пасторальных, бесхарактерных героев, свойственных лирике классицизма. Началось это, как известно, с неприятия в определенных кругах «простонародного духа» «Руслана и Людмилы». Пушкин не отступал, находя поэтический материал в обыкновенной жизни, привлекая, если нужно, «низкие» слова. «Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может избежать грубых сцен; если же нет, то нет ему нужды стараться заменять их чем-нибудь иным»35.
Вот героиня повести «Граф Нулин» сидит перед окном и читает скучный, длинный, сентиментальный роман.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже;
Казалось, снег идти хотел...
Кто усомнится сейчас в том, что это поэзия? Но козел, собака, индейка с петухом, баба с бельем, грязный двор - все это могло раздражить критика, воспитанного на книге «Любовь Элизы и Армана» - той самой, которую читает Наталья Павловна.
Не нужно забывать, что долгое время, вплоть до Пушкина, стихотворцы пользовались «низкими» словами исключительно в «низких» жанрах, в соответствующей им «низкой» стилевой атмосфере. В «высокой» поэзии порхали пастушки и пастушки, амуры, Дафнисы и Дориды, перекочевавшие к нам из французской гостиной XVIII века. Пушкин нарушил этот закон. Уже в ранних стихах пасторальный лексикон используется главным образом иронически. («Рассудок и любовь», «Красавице, которая нюхала табак» и др.)