История всемирной литературы Т.8
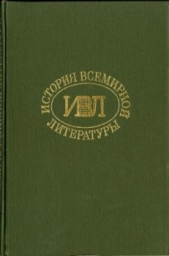
История всемирной литературы Т.8 читать книгу онлайн
Восьмой том посвящен литературе рубежа XIX и XX веков, от 1890-х годов, т. е. начала эпохи империализма, до потрясших в 1917 г. весь мир революционных событий в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антитезой эстетски-утонченной линии в акмеизме был так называемый «адамизм», культ первозданности, или, как было сказано в манифесте Городецкого, прочитанном в 1913 г. в литературном кабаре «Бродячая собака», «ощущение полноты душевных и телесных сил в поэзии». В стихотворении «Адам» (1913) Городецкий, начинавший в символистской среде как певец праславянской языческой стихии (сб. 1907 г. «Ярь» и «Перун»), расхваливал «подвиг» акмеистского Адама, призванного «живой земле пропеть хвалы». Гумилев заявлял, что «адамисты... немного лесные звери», и выдвигал благую «звериность» в противовес интеллигентской «неврастении». Характерные для умонастроений современников индустриального века рецидивы «руссоизма», идеал естественного, природно-цельного бытия (например, у Гогена и Рериха, Гамсуна и Куприна, иногда у Брюсова) приобретали у иных акмеистов антигуманистическую окраску. Владимир Иванович Нарбут (1888—1938?) в книге «Аллилуйя» (1912), бросая вызов поэтическим «красивостям», славил грубое, безобразное; демонстративный натурализм, физиологизм был присущ ранним стихам Михаила Александровича Зенкевича (1891—1973) в сборнике «Дикая порфира» (1912), слагавшего «гимны» материи «дико сумрачной и косной»; в намеренном антиэстетизме оба соприкасались с футуристами.
Отказавшись от знаковости поэтической речи, акмеисты полагали слово самоценным. Его многострунности у Блока Городецкий противополагал «народное отношение к слову как незыблемой твердыне, как Алмазу непорочному»; работа над «алмазом» слова и есть «цеховая» задача поэзии, вопреки «оракульским, жреческим и иным». Это парнасское, при всех ссылках на народность, представление о слове-самоцвете, требующем огранки, разделяли не все акмеисты. Мандельштам писал о «Психее» слова, одушевляющего предметный мир. Образ поэзии-Психеи присущ одухотворенной лирике Ахматовой. Для Мандельштама поэзия — залог связи поколений: поэт бросает свое слово векам, как «бутылку» в волны. Стихотворение может иметь конкретного адресата, но главный собеседник — «читатель в потомстве» (Мандельштам ссылался на Баратынского); задача поэта — «обменяться сигналами с Марсом» («О собеседнике», 1913). О коммуникативных целях искусства слова писал Гумилев в статье «Жизнь стиха» (1910): художник, «не принуждаемый быть полезным», должен свободно «оттачивать» свое мастерство, чтобы суметь передать людям чувство прекрасного, возбудить их «любовь и ненависть», учить «доблести».
Эти слова Гумилев писал тогда, когда его связь с символизмом была еще прочна. Но «сыновнее» чувство к нему оставалось и позже; в манифесте 1913 г. Гумилев, отрицая нынешние права символизма, заявлял, что он «был достойным отцом», и надеялся, что новое течение не посрамит своей родословной. При всех претензиях на новаторство полного размежевания с символизмом акмеистам достичь не удалось. Отрицая мистический символизм, акмеисты в своих требованиях эстетической автономии и в своей приверженности к парнасской поэтике соприкасались с ранним, брюсовским вариантом символизма; немаловажным оказался для них и опыт зрелого Брюсова-неоклассика.
«Парнасство», усвоенное непосредственно и сквозь призму раннего символизма, определило исходные устремления поэзии Николая Степановича Гумилева (1886—1921) — сборники «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Жемчуга» (1910). Многообразные обличья «декоративно-романтической» экзотики были поначалу лишены у Гумилева единого психологического стержня. Вскоре в них выявится кредо автора: поэтизация «сильной личности». Но, как это было у Бальмонта периода «Горящих зданий», среди многообразных «сверхчеловеков» — римских завоевателей, воинствующих рыцарей, жестоких «капитанов» — в стихах Гумилева все чаще мелькал и другой облик лирического «я» с его рафинированной культурой, утонченным эстетизмом, тоской по цельности («Персидская миниатюра», «Вечное», «Деревья», «Фра Беато Анжелико»). Первая ипостась Гумилева скажется в стихах 1914—1915 гг. с их прославлением героики войны («Наступление», «Ода д’Аннунцио» и др.). Вторая даст к концу 10-х годов лирику душевного надлома, одиночества поэта в мире чуждой ему новой России (сб. «Огненный столп», 1921).
В духе избранной с юности роли Гумилев строил и свою жизнь, осваивая первым из русских поэтов новые материки не только умозрительно, но и реально. Названия сборников «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916), «Шатер» (1918, изд. 1921) говорили о «кочевьях» поэта — землепроходца, воина, охотника. Выразительный образ гумилевской Африки («Красное море», «Нигер», «Сахара» и многие другие) навеян живыми впечатлениями поездок в Египет, Абиссинию и иные страны континента; его описания Гумилевым «заставляют вспомнить не столько Киплинга, сколько появившуюся позже прозу Хемингуэя» (А. Павловский). «Африканский» слой поэзии Гумилева трактовали в духе буржуазного конквистадорства, но, хотя его лира знавала подобные «неверные звуки», здесь было и другое. Европеец преодолевал европоцентризм в творческом освоении новых сфер мирового целого, эстет находил под «чужим небом» новое соотношение социально-исторических сил, когда «истинный царь над страною // Не араб и не белый, а тот, // Кто с сохою или с бороною // Черных буйволов в поле ведет».

А. А. Ахматова
Портрет работы Л. Бруни. 1922 г.
Примечательны «Абиссинские песни» (в сб. «Чужое небо»). Приемы стилизации напоминают об «Александрийских песнях» Кузмина, но содержание — мотивы социального и национального сопротивления — для Кузмина было бы невозможно. Хотя Гумилев считал, что он во времени «все тот же», облик его поэзии менялся, освобождался от эстетства и декоративизма. Для позднего Гумилева парнасский идеал поэта-ювелира утрачивает свою притягательность; возникает близкое младосимволизму представление о поэте-вожатом:
Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов,
И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им ме ч те.
(«Канцона третья»)
Убеждение в пророческой миссии творящей личности требовало иной поэтики; так появилось у Гумилева признание права художника на «высокое косноязычье» («Восьмистишие» в сб. «Колчан»). Признание, парадоксальное в устах ревнителя «прекрасной ясности».
«Отеческая» власть символизма сохранялась у акмеистов в их отношении к культуре. В условиях нигилистического бунта против нее со стороны возникших в начале 10-х годов футуристических группировок (см. ниже), которые запальчиво заявляли об отказе от культурной преемственности, символисты и акмеисты были объединены верностью ей. Причастность к мировой культурной традиции, наследование предшествующего эстетического опыта — такова была «демилитаризованная зона» между символистами и акмеистами, независимо от различий у обоих в выборе художественных ценностей и путях освоения их. Акмеистская борьба с младосимволизмом имела целью, по сути дела, лишь «реформу»: отказ от крайностей ортодоксальной эстетики при сохранении ряда творческих завоеваний символистов. «Сама идея равновесия, прочности, зрелости, послужившая основанием для термина «акмеизм», характерна не для зачинателей, а для завершителей движения», — писал Б. Эйхенбаум, полагая, что эстетическую «революцию» нес не акмеизм, а футуризм, равно угрожавший всем своим предшественникам.
Писавшие об акмеизме сходились в признании его неоднородности. Брюсов, обозревая в 1913 г. новые течения русской поэзии, был склонен считать акмеизм фантомом и видел его значение лишь в том, что под его «призрачное знамя встало несколько поэтов, несомненно талантливых». Уже в 10-е годы критика характеризовала поэзию Анны Андреевны Ахматовой (1889—1966) как явление, эмоционально несродное акмеизму: слишком разнились наступательный мажор акмеистских деклараций и ахматовский лиризм надлома чувств, разочарований в любви, женской тоски и обиды. «Какая она акмеистка? Какая „адамистка“?» — недоумевал критик журнала «Заветы». Тем не менее в первых сборниках Ахматовой («Вечер», 1912; «Четки», 1914; «Белая стая», 1917) отчетливо сказались идейно-стилевые особенности, общие для некоторых поэтов, «преодолевших символизм» (так назвал свою статью 1916 г. об акмеистах В. Жирмунский), и индивидуальные. Это камерность лирического голоса вместо символистской «оперности», однозвучность содержания, намеренная ограниченность эмоционального диапазона, конкретность переживания. И вместе с тем особая забота о новизне словесной формы, отмеченной предельным лаконизмом. Формальное своеобразие достигалось «добровольным ограничением задач искусства»: именно «сужение душевного мира» сделало его рисунок особенно «графичным, четким» (В. Жирмунский). Преодоление камерности лиризма через творческое сближение с народной жизнью составит смысл эволюции Ахматовой после Октября. Художественное новаторство поэтессы выявилось раньше. Прокламированное акмеистами устремление к «вещественному» отразилось в стихах «Четок» и «Белой стаи» как своеобразная «материализация» переживания, как «перевод» глубинных движений души на язык «телесного» — позы, жеста, мимики. Уже тогда сказалось воздействие на поэтику Ахматовой психологизма русской классической литературы, прозы Л. Толстого. Вслед за Анненским (чей художественный опыт акмеисты чтили) поэтесса избирает в качестве эмблем состояний лирического «я» ту или иную деталь внешнего мира, конкретную вещь, предмет, нередко обыденный. Она часто говорит о глубинном намеренно будничным языком, выражает смысл переживания эпиграмматически емкой формулой:


























