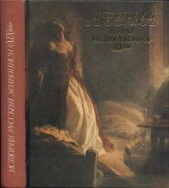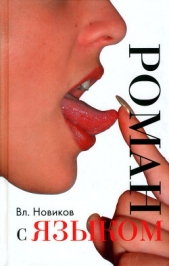Труд писателя
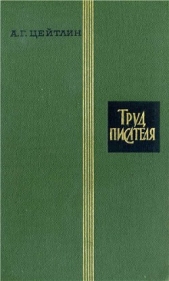
Труд писателя читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К дневникам непосредственно примыкают письма писателя, содержащие в себе те же важные творческие признания, но обращенные уже не к читателю, а к другу или творчески близкому литератору. Правда, не каждого писателя. Скрытный Лермонтов был чрезвычайно скуп на признания творческого порядка. О написанном им стихотворении «Парус» поэт сообщал в одной мало что поясняющей фразе: «Вот еще стихи, которые сочинил я на берегу моря». Тем рельефнее вырисовывается на фоне таких исключений творческая исповедь писателя, запечатленная в его письмах. Возьмем, например, письма Герцена к жене и ближайшему другу Огареву, которые он справедливо расценивал как документы большой исторической важности. «Сатин говорит, что ты, кажется, сжег мои письма. Это скверно, лучше бы сжег дюйм мизинца на левой руке у меня. Наши письма — важнейший документ нашего развития и моей жизни; в них, время от времени, отражаются все модуляции, отзываются все впечатления на душу. Ну, как же можно жечь такие вещи?»
Ценность переписки Герцена с близкими ему людьми заключается не только в том, что в них с исключительной полнотой отражена его многогранная личность («Мои письма — я»), — эти письма являются также неотъемлемой частью творческой лаборатории писателя. В повести «Елена», предупреждает Герцен Наталью Александровну, «...ты найдешь толпу выражений из наших писем». Письма Герцена в какой-то мере подготовляют собою «Былое и думы». Явления подобного рода не единичны. Написанные Гончаровым во время его кругосветного путешествия письма к друзьям — в первую очередь к семье Майковых — ложатся, с некоторыми изменениями, в основу текста «Фрегата «Паллада». В письме Тургенева к Полине Виардо еще в 40-е годы прозвучала та тема «России-сфинкса», которая тремя десятилетиями позднее раскрылась в его стихотворении в прозе. Флобер откровеннее других писателей признал учебно-экспериментальную функцию некоторых своих писем, которые он писал затем, чтобы «выработать серьезный стиль».
Особой ценностью обладает переписка писателей, изобилующая множеством творческих взаимопризнаний. Первое место в этом отношении занимает переписка Гёте и Шиллера, продолжавшаяся около одиннадцати лет и чрезвычайно много давшая обоим писателям. «Ваши письма для нас — богато нагруженные корабли...» — говорил Шиллер Гёте. Столь же содержательны ответные послания Шиллера для самого Гёте. В русской литературе очень интересна переписка Горького и Чехова. Перечитывая их письма, мы видим, как ценны они для характеристики творческой манеры обоих писателей. Но дело не только в этом — письма Чехова и Горького ставят важнейшие проблемы развития русского реализма.
Мы говорили до сих пор о документах личного архива писателя; ими, однако, далеко не ограничивается материал, которым располагают исследователи. К разнообразным автопризнаниям художников слова следует присоединить мемуарные свидетельства близких писателю лиц. Друг, наблюдавший писателя со стороны, часто имеет возможность увидеть то, чего не замечает сам писатель. Свидетельства эти тем более ценны, чем более близко связан этот друг с творческим процессом писателя. Наши представления о работе Гоголя над «Мертвыми душами», несомненно, пострадали бы, если бы мы вдруг потеряли возможность опираться на замечательный рассказ П. В. Анненкова о его совместной с Гоголем жизни в Риме. М. В. Юзефовичу мы обязаны чрезвычайно важным сообщением о том, что, по первоначальному замыслу Пушкина, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Для верного понимания замысла трилогий Помяловского первостепенное значение имеют его признания Благовещенскому об «отношениях плебея к барству».
С помощью всего этого материала — рукописей, дневников, писем и мемуаров — исследователь может подвергнуть печатный текст произведения гораздо более глубокой интерпретации.
Говоря об исключительной ценности рукописного фонда, мы не должны забывать, однако, о его неполноте. В распоряжении историков английской литературы нет ни одного письма Шекспира, ни одной из черновых рукописей, которые дали бы нам возможность реконструировать хотя бы основные вехи его творческой работы. Многие рукописи уничтожены — потому ли, что этого хотели писатели (например, Гёте, убежденный сторонник уничтожения черновиков), то ли в силу ряда серьезных причин внешнего порядка. Собираясь вернуться в Россию после многолетнего пребывания в Западной Европе, Достоевский сжег рукописи «Идиота» и «Бесов», которые могли бы представить опасность для романиста, находившегося в 60-е годы под правительственным надзором. В предвидении обыска уничтожил некоторые свои рукописи и Шевченко. Рукописи Шекспира, по-видимому, сгорели, черновые автографы Грибоедова употреблены были на оклейку окон и т. д.
Еще более серьезные трудности — уже не внешнего, а внутреннего порядка — заключаются в недостоверности ряда дошедших до нас автопризнаний. Материал этот иногда является плодом подделки или авторской неискренности. Содержащееся в творческих признаниях писателя нередко приукрашивается и — часто незаметно для самого художника — обрастает поэтическим вымыслом. Руссо пишет «Исповедь» охваченный манией самообвинения и порою сам признается в этом сгущении красок. Ему опасно верить даже в частностях: «...Утверждая в предисловии к этой пьесе (пьесе «Влюбленный в самого себя». — А. Ц.), будто я сочинил ее в восемнадцатилетнем возрасте, я ошибся на несколько лет», — признается Руссо в «Исповеди». Все виды замалчивания и позирования знакомы Стендалю, художественная автобиография которого («Жизнь Анри Брюляра») полна всевозможной рисовки и выдумки. Подобные примеры легко умножить.
Как ни очевидны трудности исследователя вследствие неполноты материала или ненадежности писательских автопризнаний, мы вовсе не склонны на этом основании отвергать возможность использования самого материала. В частности, нам кажется ошибочным взгляд А. И. Белецкого, приглашающего исследователей покинуть ненадежную область автопризнаний и изучать мастерскую писателя по одним лишь печатным текстам его произведений [6].
Пусть творческий процесс художника иногда недоступен его самонаблюдению — плодотворна даже неполная реконструкция его художником слова. Ни дефекты исторической памяти писателя, ни нередкие ошибки в его суждениях не могут дискриминировать материал автопризнаний в целом. Как и всякие иные суждения, высказывания писателей о себе могут быть надежным образом проверены. Экспертиза опровергнет и обычные уверения Мериме в том, что литературный труд был для него всего лишь развлечением от скуки, и уверения Достоевского в том, что он работал над своими романами с наслаждением и легкостью. Пусть мемуары некоторых современников великих писателей апокрифичны — это прекрасно может быть установлено научной экспертизой.
Явление «само сочинительств а» никак нельзя отрицать или игнорировать, однако оно не является очень распространенным. Большинство мастеров искусства никогда не смотрело на литературный труд как на повод для выставления напоказ собственных достоинств. Он для них — кровная необходимость. Осужденный на многолетнюю каторгу, Достоевский больше всего опасается невозможности творить в условиях сибирского заточения. «Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше 15 лет заключения и перо в руках!» — писал Достоевский брату перед отправкой в Сибирь. Виднейшие писатели прошлого считали литературный труд делом всей жизни. Мольер, уже умирая, создавал «Мнимого больного».
Подлинно драматичны случаи, когда художнику не удается довести свои замыслы до адекватного воплощения. Огромной силы трагизмом дышат мемуарные свидетельства современников Гоголя о том, как плакал он, сжигая вторую часть «Мертвых душ», и не менее трагичны обещания, которые дрожащим голосом давал читателям уже неизлечимо больной Глеб Успенский: «Я еще буду писать». Свободно текущий поток творчества оказывал на писателя неизменно врачующее действие. Ибсен признавался, что каждое новое написанное им произведение служило его «духовному освобождению и просветлению». Самое понятие творчества для писателя неотрывно от понятия счастья.