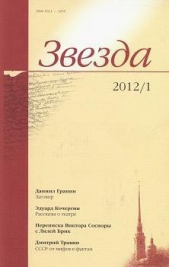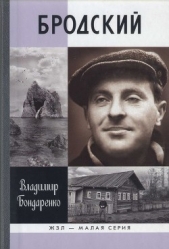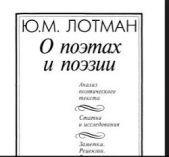«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского читать книгу онлайн
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Горациевско-пушкинский образ воображаемого памятника, символизирующего долговечную славу стихотворца, в поэзии Бродского сохраняется [374]. Сама возможность существования такого монумента Бродским отрицается:
Полемически соотнесены с горациевской одой строки:
Обелиск соотнесен с горациевскими царственными пирамидами, которые переживет слава поэта: обелиск и пирамиды сходны по своему облику. «Всадник с копьем» ассоциируется прежде всего со святым Георгием — самым известным всадником с копьем. Отрицание сходства со святым Георгием означает отказ от притязаний на роль поэта — победителя Зла («дракона»-змея, убитого святым Георгием). Но это отрицание возможно лишь при некотором сходстве святого Георгия и стихотворца. Такое уподобление основано на визуальном подобии поэт, макающий перо в чернильницу, — святой Георгий, поражающий дракона. В более позднем стихотворении Бродского этот образ воплощается в тексте:
Если же он представлен как существующий наяву, то это существование полуэфемерно и, может быть, недолговечно. Монумент воздвигнут «впопыхах», это обелиск, сходящиеся линии которого ассоциируются с утратой перспективы, с несвободой и агрессией, устремленной к небу [375]:
Воображаемый монумент предстает у Бродского не мысленным, но физически ощутимым. Это не более чем громоздкая «вещь», ничем не отличающаяся от других вещей; сходным образом горациевско-пушкинский памятник превращается в «твердую вещь» и «камень-кость» («Aere perennius» [IV (2); 202]). Вертикаль, в том числе и вертикаль памятника поэзии, у Бродского обладает пейоративными коннотациями, являясь атрибутом тоталитарного государства и тоталитарной культуры:
Сходные оттенки смысла присущи вертикально устремленным строениям — минаретам и колоннам — и в эссе Бродского «Путешествие в Стамбул» (1985) [376]. Символ тоталитарной власти — грандиозная Башня-темница в пьесе Бродского «Мрамор» (1982) (IV [1]; 247–308).
Жизнь поэта не мыслится как исполненная особенного смысла, которого лишено существование прочих людей: «памятника» не удостоится, в него не превратится ни лирический герой — стихотворец, ни его мать — домохозяйка: «Видимо, никому из / нас не сделаться памятником» («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…», 1987 [III; 142]).
Бродский не только придает новую семантику горациевско-пушкинскому «памятнику», но и оспаривает представление создателя стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» о природе долгой жизни поэта в памяти потомков. Ответ Пушкину — стихотворение «На столетие Анны Ахматовой» (1989):
Элементы бытия представлены в тексте через пары контрастирующих вещей, через оппозиции «вещь — орудие ее уничтожения»: «страница — [сжигающий ее] огонь», «зерно — [перемалывающие его] жернова», «волос — [рассекающая его] секира». Лишь элементы четвертой пары, относящиеся не к физической, а к духовной сфере — «прощенье и любовь», — синонимы, а не оппозиция. «Слова прощенья и любви» — отголосок, эхо пушкинских слов «в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал», в которых названы основания для благодарной памяти народа о поэте. Бродский солидаризируется с пушкинским пониманием заслуг поэта (у Горация такими заслугами были новаторские черты стихотворной формы — перенесение в римскую литературу греческих размеров) [377].
Следуя пушкинскому пониманию права поэта на благодарность потомков, Бродский совсем иначе представляет посмертную жизнь стихотворца. И у Горация, и у Пушкина тленной «части» поэта противопоставляется «часть», которая должна избежать уничтожения: «Non omnis moriar, multaque pars mei / Vitabit Libitinam»; «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит <…>» (III; 340). Пушкинская формула бессмертия «не находит себе соответствия в многовековой традиции, стоящей за „Памятником“, она индивидуально-пушкинская и несомненно главная для стихотворения, составляет его смысловой центр. <…> Здесь найден ответ на самый мучительный вопрос последних лет: каков „спасенья верный путь“, как спасется душа, если спасется. Судьба у поэта „необщая“, душа его неотделима от лиры и именно в лире переживет его прах» [378]. Пушкин впервые ввел в стихотворение, принадлежащее традиции Горациевой оды «К Мельпомене», слово «душа» [379]. С этим словом он ввел также и «тему личного бессмертия, не какого-то особого, метафорического бессмертия поэта, а истинного бессмертия в его религиозном смысле. Также он первым ввел сюда и тему „веления Божия“ <…>» [380]. Образ поэта у Пушкина сакрализован, и поэтическое бессмертие мыслится как отражение и подобие бессмертия Христа: «„Нерукотворный“ это ведь не просто „духовный“, „нематериальный“; этим словом определяется в Новом Завете лишь то, что сотворено Богом, а Пушкин претворяет евангельский мотив в лирическое высказывание от первого лица <…>. Тут сразу задана та царственная надмирность поэта („вознесся выше он“), которая ощущается и дальше, в каждой строфе „Памятника“. Прав Дэвид Хантли, что уже само это особое, лишь однажды употребленное Пушкиным слово „устанавливает связь между делом поэта и делом Христа“» [381].