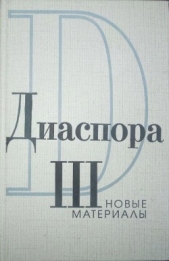Русские символисты: этюды и разыскания

Русские символисты: этюды и разыскания читать книгу онлайн
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Преодоление Ремизовым декадентского «лиризма» и постепенный поворот к «объективной» манере повествования и обретению собственного стиля, которым отмечено его творчество второй половины 1900-х гг., встретили у Брюсова сочувственную оценку. Он высоко отозвался о сказках из книги «Посолонь» [385], ставшей первым крупным и безусловным литературным успехом Ремизова. Брюсов входил в состав жюри на конкурсе «Золотого Руна», присудившего в декабре 1906 г. премию рассказу Ремизова «Чертик» — одному из первых произведений, в которых уже были налицо особенности его зрелой повествовательной манеры. За «Чертиком» последовали такие замечательные рассказы Ремизова, как «Занофа», «Суд Божий», «Царевна Мымра», «Жертва» и другие, в которых, по словам Блока, уже не было «корявости» и «мучительности» прежних опытов: «Ремизов как бы научился править рулем в океане русской речи <…> Ремизов овладел образами, словами, красками; он уже свободно, без субъективных лирических опасений, отпустил их в объективную эпическую даль <…>» [386]. «Жертву» — один из лучших своих рассказов новой «эпической» манеры — Ремизов опубликовал в «Весах» (1909. № 1) после того, как Брюсов призвал его возобновить сотрудничество в журнале. Позднее, взяв в свои руки литературно-критический отдел «Русской Мысли», Брюсов также старался заполучить произведения Ремизова, преодолевая настороженное отношение к ним редактора-издателя П. Б. Струве. Высылая ему осенью 1910 г. статью Иванова-Разумника о Ремизове, Брюсов писал: «Вы видите, что я не одинок в своей защите Ремизова. Я уверен, что своего круга читателей, и не маленького, он добьется» [387]. «…Сейчас Ремизов хорошее „имя“», — вновь подчеркивал Брюсов в письме к Струве от 10 марта 1911 г. [388].
В то же время обращает на себя внимание то обстоятельство, что Брюсов, плодовитый и оперативный критик, писавший фактически обо всех крупных писателях символистского круга (а обо многих и по нескольку раз), произведениям Ремизова, в начале века выпущенным в свет в нескольких десятках отдельных изданий, не посвятил ни одной своей статьи, ни одной рецензии [389]. В этом забвении мог быть какой-то элемент случайности; безусловно, сказывалось и обычное для Брюсова-критика предпочтение поэзии — отзывов о стихотворных книгах у него неизмеримо больше, чем о художественной прозе. Едва ли в этом играли роль идейные мотивы: Брюсов в целом не разделял убеждений о «нелепости жизни, иррациональности человеческой психологии» (как он обобщенно характеризовал общий смысл ремизовского творчества [390]), не разделял и представлений Ремизова о «богооставленности» человека в мире и его роковой обреченности на страдание, сходных с основными положениями позднейшей философии экзистенциализма [391], — но со свойственным ему «плюрализмом» признавал право писателя на исповедание собственной «правды» и в обсуждение вопросов мировоззренческого характера с ним не вступал. Скорее всего в критическом невнимании Брюсова к Ремизову могло сказываться принципиальное несходство их творческих устремлений и стилевых тенденций.
Справедливы замечания о том, что ремизовская проза организована «симфонически», с использованием музыкальных композиционных принципов [392]. Сам Ремизов заявлял в книге «Иверень»: «…я никакой рассказчик, я песельник, и из меня никогда не вышло „романиста“: мой „Пруд“, „Часы“, „Крестовые сестры“, „Пятая язва“, „Плачужная канава“ и даже „Оля“ — какой-то канон и величание, но никак не увлекательное зимнее чтение моего любимого Диккенса. Мне легче говорить от „я“, не потому что я бесплоден <…> и вовсе не по „бесстыдству“, а потому что „поется“» [393]. Другая важнейшая особенность ремизовской прозы — предпочтение «школьному синтаксису» «лада природной речи» [394]. Выразителями «школьного синтаксиса» (в более уважительном варианте — «русской искусственной книжной речи» [395]) для Ремизова были крупнейшие писатели XIX в. — Пушкин, Гончаров, Тургенев, Чехов и др.; Брюсов естественным образом примыкал к этому ряду. В русле «книжной», «пушкинской» традиции Ремизов воспринимал и «скорпионовские» альманахи «Северные Цветы» («Символисты под знаком Пушкина» [396]), и идею «прекрасной ясности» М. Кузмина, прокламированную журналом «Аполлон»: «Это был всеобщий голос и отклик от Брюсова до Сологуба. Мне читать было жутко. <…> Прекрасная ясность по Гроту и Анри де Ренье» [397]. Ремизов же стремился к развитию национальных начал в художественном слове, какими он их понимал, к следованию фольклорно-поэтическим и древнерусским литературным традициям; свою писательскую генеалогию он возводил к Епифанию Премудрому, протопопу Аввакуму, а в новейшей литературе — к Гоголю и Лескову. Считая в этом смысле своим сподвижником В. В. Розанова, Ремизов подчеркивал, что у подавляющего большинства русских писателей синтаксис «письменный», «грамматический», а у Аввакума и Розанова «— „живой“, „изустный“, „мимический“» [398].
«Музыкальная» организация повествования, подчеркнуто национальный колорит, «изустносгь», сказовость ремизовской прозы, — все эти особенности стоят в полярной оппозиции тем стилевым ориентирам, которые присущи творчеству Брюсова. Стройная, отчетливая, логически ясная, выверенная композиция брюсовских стихов и прозы, стремление к «гармонии» и внешнему совершенству, строгая функциональная определенность всех формальных компонентов (ср. шутливое замечание Ремизова Брюсову: «Вы таких строгостей напустили, что ой-ой» [399]), с одной стороны, и с другой — ремизовский «хаос», фабульные ходы, подчиненные саморазвитию образно-стилевой структуры, «плетение словес» на новый лад — орнаментальная проза [400], магия самоценного слова, возрожденного из дали веков или извлеченного из глубин диалектной речи, пренебрежение логическим распорядком и ценностной иерархией в художественной интерпретации действительности («Я только археолог, — отмечает Ремизов, — для которого нет ни важного, ни неважного, все одинаково ценно для какой-то смехотворной истории») [401]. При столь различных конкретных эстетических ориентациях и устремлениях неудивительно, что Брюсов воздерживался от развернутой характеристики и оценки художественного мира Ремизова, далекого ему и не особенно созвучного, признавая, впрочем, его значение и его право на суверенное существование. Ремизову творчество Брюсова (и прежде всего его проза) также в целом оставалось достаточно чуждо, и хотя он на всю жизнь сохранил признательность поэту, способствовавшему его вступлению в литературу, среди современников-символистов он выделял на первый план две другие, более близкие ему фигуры — Александра Блока и Андрея Белого.
Личные отношения Брюсова и Ремизова, не развившись во внутреннюю близость, остались в рамках корректной взаимной доброжелательности. Иначе, видимо, и произойти не могло даже при самых благоприятных обстоятельствах, поскольку и в жизненном обиходе Брюсов и Ремизов являли собой два противоположных типа поведения. У Брюсова, предпочитавшего формализованный, суховатый, конструктивно-деловой стиль общения с недостаточно близкими ему людьми, едва ли могло вызвать ответный отклик стилизованное поведение Ремизова — его чудачества, розыгрыши и всевозможные «игры». «В нем было много актерского; но поприщем, на котором это его свойство проявлялось, была не сцена, а жизнь», — вспоминает о Ремизове В. Пяст [402]. Это игровое начало окрашивает и письма Ремизова к Брюсову (хотя в них оно присутствует в смягченном виде, оставаясь лишь неким смысловым и стилевым фоном, но никогда не становясь самодовлеющим содержанием). Андрей Белый сетовал в письме к Ремизову, что «в Москве людей мало среди <…> знакомых: больше „сюртучные пары“», что «между ними человеческого общения нет: все больше „сюртучное“» [403]. Игровая окраска бытового поведения у Ремизова скрывала и его стремление к «эзотерической» доверительности отношений, к своеобразному выявлению в них «человеческого» начала, однако Брюсова скорее устраивало «сюртучное», по определению Белого, общение, и в ремизовских бытовых стилизациях он, в отличие от некоторых других знакомых и друзей писателя, не мог и явно не хотел становиться даже пассивным партнером. Закономерно, что переписка Брюсова и Ремизова затухает, как только для ее продолжения не оказывается новых сугубо деловых поводов.