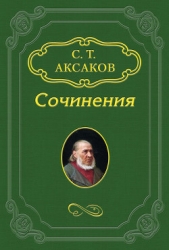Гоголь

Гоголь читать книгу онлайн
Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8(20) июня 1847 г. Гоголь писал из Франкфурта-на-Майне Н. Я. Прокоповичу: «Я прочел на днях критику во № 2 „Современника“ Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда; в книге моей… есть нападенье на всех и на всё, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однакож, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливостью даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в „Современнике“, в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам. По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу».
29 июня н. ст. 1847 г. Гоголь писал Б. из Франкфурта: «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в „Современнике“, — не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить человека даже не любящего меня, тем более вас, который — думал я — любит меня. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные — все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной коже (всем нам нужно побольше смирения); но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят все это и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые, покамест, еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом. Я очень не даром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я выжидал только времени, когда мне можно будет сказать об этом, или, справедливей, когда мне прилично будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувствовал беспристрастия и справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, — всё это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!»
По свидетельству П. В. Анненкова, по получении этого письма Б. вспыхнул и промолвил: «А! Он не понимает, за что люди на него сердятся, надо растолковать ему это. Я буду ему отвечать».
В ответном письме 15 июля н. ст. 1847 г. из Зальцбрунна Б. писал Гоголю: «Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим, действительно не совсем лестным, отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и нелитературные — Чичиковы, Ноздревы, городничие и т. д. — и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы сами видите, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы и она была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели, — в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, a удивительно только то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть, потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме… а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута трехвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивнохудожественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше… И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки… И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, — совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: „Ах ты, неумытое рыло!“ Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого, и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, и другая поговорка говорит тогда: без вины виноват! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или… не смею досказать моей мысли!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною… Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью (христианство Б., в отличие от гоголевского, было христианством внецерковным. — Б. С.)? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор… Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи, восточные и западные! Неужели вы этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста… А потому, неужели вы, автор „Ревизора“ и „Мертвых душ“, неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочку и попова работника (подобные же сказки про священнослужителей в ходу и у других народов. — Б. С.). Кого русский народ называет дурья порода, колуханы, жеребцы? Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся, холодною, аскетическою созерцательностию, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно. Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием Божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна… Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот: постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим компрометировал бы себя в глазах общества… Бестия наш брат, русский человек!.. Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили… „Но, может быть, — скажете вы мне, положим, что я заблуждался и все мои мысли ложь; но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?“ Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею (Степан Онисимович Бурачек (1800–1877), талантливый инженер-кораблестроитель, генерал-лейтенант, в 1840–1845 гг. редактировал журнал „Маяк“, охранительного направления. — Б. С.). Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане, тогда как вы, желая поставить по свече и тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с вашей точки зрения, если бы только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен Тот, Кто и т. д. (в благодарственном письме С. С. Уварову от 2 мая 1845 г. в связи с назначением, по императорскому повелению, пенсии в 3000 рублей на три года Гоголь утверждал: „Все, доселе мною написанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу“. — Б. С.) Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека? Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви (сомнительно, чтобы народ был в курсе насчет производства поэта в камер-юнкеры. — Б.С.). И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в „Ревизоре“ и „Мертвых душах“ вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства, но „Ревизор“ и „Мертвые души“ от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это уже показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!.. Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины! Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы! „Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек!“ Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора „Ревизора“ и „Мертвых душ“? Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне как об одном из ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главной мыслью вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос (имеется в виду статья П. А. Вяземского „Языков — Гоголь“. — Б. С.). Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его „вялый, влачащийся по земле стих“. Все это нехорошо! А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и N (Николай Николаевич Тютчев (1815–1878), друг Б. — Б. С.) переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж через Франкфурт на Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».