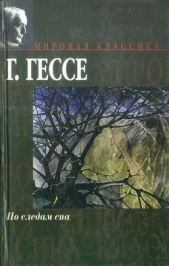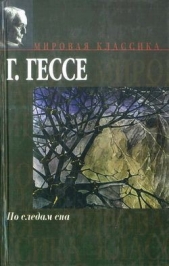Поэты

Поэты читать книгу онлайн
В книге собраны статьи о поэзии Вергилия, Ефрема Сирина, Григора Нарекаци и, Державина, Жуковского, Вячеслава Иванова, Мандельштама, Брентано, Честертона, Гессе.
«Опыты о старых и новых поэтах, составляющие эту книгу, написаны в разное время и в жанровом отношении не вполне однородны. Если я счел возможным соединить их вместе, то меня побудила к тому присущая им общая черта — установка на портретность. Порой это портретность в буквальном смысле. В других случаях портретность запрятана чуть поглубже. Каждая «картинка», на манер мозаики выкладываемая мною из слов, — только подступ к предмету, только догадка, стоящая под вопросом; и я стараюсь никогда не забывать о том, что любое поползновение употреблять метафоры, сравнения и эпитеты в функции доказательных аргументов погрешает против элементарной умственной честности. Моей целью было — ввести мою субъективность в процесс познания, но с тем, чтобы она в этом процессе «умерла». Не мне судить о том, когда мне это хотя бы отчасти удавалось, а когда решительно не удавалось. В одном я уверен: поэты, о которых я писал, не были для меня предлогом сказать нечто «по поводу». Они были для меня — ими самими, то есть чем–то несравнимо более интересным, нежели все, что я имею о них сказать.»(Из введения).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Немецкий романтизм ставит в порядок дня неизвестную прежде задачу: средствами художественного перевода сделать доступным для своих читателей, то есть образованных людей романтической культуры, более или менее полный круг шедевров поэзии всех времен и народов — Данте и Тассо, «Махабхарату» и «Шахнаме» (то, что Рюккерт переводил обе упомянутые восточные поэмы, имеет к Жуковскому самое прямое отношение). Но и в Англии Колридж начал с того, что перевел шиллеровского «Вал лен штейна». Даже во Франции, где художественный перевод всегда стоял дальше от центра литературы, Жерар де Нерваль переводил «Фауста», ту самую «Ленору» Бюргера, которая вызвала знаменитое состязание между Жуковским и Катениным, и другие произведения немецкой поэзии. Жуковский как поэт, в руках которого именно переводческая практика была орудием эксперимента в родной литературе, — не изолированное или локальное явление, а равноправный участник всеевропейского культурного переворота. Во вдохновлявшей его «тоске по мировой культуре», как по другому поводу выразился русский поэт нашего столетия, не было ничего провинциального.
Явление романтического художественного перевода было подготовлено предромантизмом XVIII века, впервые открывшим плюрализм культурных традиций: Макферсоновы «Фрагменты древней поэзии, собранные в горах Шотландии» (1760), «Фингал» (1762), «Темора» (1763), также «Замок Отранто» (1764) Уолпола — все эти сенсации, с минимальной дистанцией во времени обрушивавшиеся на голову европейского читателя, свидетельствовали о пробуждении вкуса к «варварскому», «готическому», принципиально антиклассическому, который еще готов был довольствоваться подделками, но уже осознавал себя. Оно было подготовлено универсализмом веймарской классики, породившим раздумья В. фон Гумбольдта о переводе как искусстве сохранить «чужое», убрав помеху «чуждого» [144], и на своем пределе вылившемся в чеканный термин–императив, который первый раз появляется у позднего Гёте — «мировая литература» (Weltliteratur) [145]. Оно тем и отличалось от известного более старым культурам перевода–подражания, что его драматическая пружина, его «интрига», его «изюминка» — контраст и встреча «своего» и «чужого»: встреча именно через контраст, который настолько восчувствован, что и встреча происходит под знаком собственной невозможности.
«Чужое», сознаваемое и переживаемое в своем качестве «чужого», на поверхности предстает как экзотика. Если позволить себе не совсем ловкий каламбур, можно сказать, что экзотика есть экзотперика романтизма, в частности романтического перевода. О ней не очень интересно говорить, но несколько слов нужно сказать здесь же. Баллада «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» — одна из самых внешних удач Жуковского. Это стихотворение во всех смыслах блестящее — также и в том смысле, который имеет в виду пословица «не все то золото, что блестит». Его чуть навязчивый ритм был создан, чтобы остаться у всех на слуху и плодить пародии вроде «Югельского барона», приписываемого Лермонтову («До рассвета поднявшись, перо очинил…»). Возбуждающее действие похоже на то, которое оказывали на поколения читателей символистской лирики строки Вяч. Иванова: «Бурно ринулась Мэнада, // Словно лань, словно лань…» (ср. у Блока: «Мы пойдем на «Зобеиду», // Верно дрянь, верно дрянь…»). И у Жуковского, и у Иванова есть стихи куда существеннее, но мало таких шумных, созданных для мгновенного успеха, через несколько поколений становящегося непонятным. А потому «Замок Смальгольм» — подходящий пример, чтобы усмотреть функциональное назначение экзотики. Герой сразу введен как «знаменитый Смальгольмский барон» (ну, кто же не знает Смальгольмского барона?..); а в рифму барону — Бротерстон. И дальше идет в том же роде.
Анкрамморския битвы барон не видал,
Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас–Достаточно ли сказать, что это самоцельная поэзия звучного имени? Совершенно недостаточно. Обостренная чувствительность Жуковского к фонике иноязычных имен засвидетельствована обилием случаев, когда он эти имена менял в переводе сравнительно с оригиналом [146]; и все же не в фонике, не в одной фонике дело. Вспомним для сравнения знаменитую строку из I акта «Федры» Расина, на свой, классицистический лад извлекающую максимум возможностей из поэтической силы имени:
La fille de Minos et de Pasiphae [147].
На первый взгляд кажется, будто у Жуковского — то же самое, что у Расина; но это лишь на первый взгляд. Разница вот в чем: читатель, предполагаемый поэзией Расина, знал назубок, кто такие Минос, Пасифая и дочь их. Звуки звуками, но важно прежде всего интеллектуальное удовлетворение, доставляемое ясностью, опознаваемостью названного, прозрачностью связей, — Минос был врагом и губил афинских юношей, отдавая на съедение Минотавру, Пасифая прославилась чудовищной страстью, вот и дочь их окажется врагиней, губительницей афинского юноши Ипполита, примером предосудительной страсти. Совсем иначе обстоит дело с шотландской и отчасти английской топонимикой и ономастикой в романтическом переводе Жуковского. Каждое имя читатель слышит в первый (а равно и в последний) раз в жизни [148], но интонация баллады энергично внушает ему, что в том, «чужом» мире они, должно быть, известны каждому ребенку, раз и Смальгольмский барон «знаменитый», и Анкрамморская битва — не какая–нибудь, а та самая, в которой участвовали все эти персонажи: Эверс, Боклю, Дуглас, судя по всему, настолько всем памятные, что их достаточно просто назвать… Большей противоположности разъясняющему, растолковывающему способу вводить действующих лиц в классицистическом эпосе и не придумаешь.
Конечно, Жуковский следовал за Вальтером Скоттом, а Вальтер Скотт — за народной традицией исторической баллады, рождавшейся по свежим следам события, но весь вопрос в том, зачем они это делали и что они при таком следовании имели в предмете; они оба, но Жуковский — особенно, просто потому, что он писал для читателя, для которого Анкрамморская битва географически, этнографически, исторически была несравнимо дальше. У него соль в том, что мы сразу, без малейшего перехода, из «своего» перемещаемся в «чужое», и в результате неизвестное, так и не став известным, уже имеет все права самоочевидности, так что читатель в самом буквальном смысле слова поставлен перед ним, как перед совершившимся фактом. В этом— суть романтического «местного колорита». Упразднена тысячелетняя иерархия, которая предполагала, что одни предметы, как имена Миноса и Пасифаи, подлежат обязательному знанию заранее, другие преподаются автором с невидимой указкой в руках по ходу изложения, а третьи неизвестны и, следовательно, не существуют, или хотя бы не совсем существуют, то есть несущественны (а таково все «варварское»).
Дух захватывает от внезапного, пронзительного ощущения, что есть целая жизнь со всей полнотой своих связей, которой мы не знаем, но которая сама знает о себе, — и этого достаточно. Экзотика могла — чего у Жуковского никогда не бывает — вырождаться в нечто декоративное. Но не по этому вырождению должно о ней судить. Пока романтические открытия еще оставались открытиями, в их соседстве сама сенсационность экзотики подобна взрывчатой сенсационности секрета. Мы взяты кудато, где, вообще говоря, находиться не можем. Мы знать не знаем, кто такие Боклю и Дуглас, однако разглядываем, подглядываем мир, где эти имена естественно с полной непринужденностью бросить в придаточном предложении. Ибо экзотика — не просто далекое. Экзотика — недостижимое. Вернее, экзотика, в той мере, в которой она есть не более чем экзотика, — это иллюзия достигнутого недостижимого. С этим связана присущая ей известная мера поверхностности, о которой говорилось выше. Но и будучи иллюзией, она указывает в сторону недостижимого, несет в себе неослабленный императив недостижимого, который действует и тогда, или особенно тогда, когда об экзотике говорить уже невозможно.