История всемирной литературы Т.8
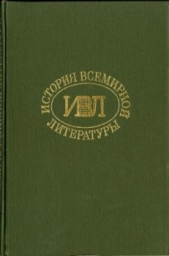
История всемирной литературы Т.8 читать книгу онлайн
Восьмой том посвящен литературе рубежа XIX и XX веков, от 1890-х годов, т. е. начала эпохи империализма, до потрясших в 1917 г. весь мир революционных событий в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рожденный его воображением Тильбюри-таун был до неразличимости схож с десятками скромных городков Новой Англии, где прошла юность поэта. Впоследствии он сделался ньюйоркцем, служил контролером в метро, потом стал чиновником на таможне, был замечен президентом США Р. Рузьвельтом, любившим покрасоваться в роли мецената, и получил возможность целиком посвятить себя литературе. В жизни Робинсона происходили перемены, но в его поэзии они не находили прямого отклика. Он все так же обитал в своем Тильбюри-тауне, где разыгрывались невидимые миру человеческие драмы, а монотонность будней приглушала устремления людей к добру и красоте. Образ Тильбюри-тауна, окончательно сформировавшийся в лучшей книге Робинсона «Городок вниз по реке» (1910), сохраняя достоверность непосредственного свидетельства, приобрел добавочные измерения: летопись человеческих разочарований и надежд, хроника повседневности перерастала в своего рода лирический эпос движущейся истории.
Река исторического времени словно бы разбивается на множество протоков, рукавов, стариц, а то и вовсе иссякает в душноватой атмосфере тишайшего захолустья. Но ее глубинное течение непрерывно. Социальный контекст стихов Робинсона — это «позолоченный век», эпоха меркантилизма, торжествующей буржуазности. Он первым заговорил о надломе, апатии духа, кризисе веры, утилитаризме этических принципов, о невозможности достичь гармонии бытия, выразив ощущение жизни, возникшее в условиях бездуховной, антигероической действительности рубежа столетий, и найдя тему, которая стала одной из самых значительных для американской поэзии нашего столетия.
Он писал стихи, проникнутые грустной иронией и неясной мечтой о более гуманных отношениях между людьми. Мир, окружавший Робинсона, казался ему лишь неудачной копией подлинно гармоничного мира, который появляется в его поэзии вместе с образами людей шекспировской эпохи или героическими фигурами тогда еще близкой американской истории — Линкольном, Джоном Брауном. Высокий этический идеал, воплощенный в этих персонажах его лирики, находится в резком, подчеркнутом несоответствии с духовной опустошенностью и убогим практицизмом, всевластным над обитателями Тильбюри-тауна. Робинсона болезненно ранили свидетельства распада человеческой личности и крушение естественных нравственных норм. Его Тильбюри-таун выглядит городом без авеню и площадей, городом переулков, упирающихся в пустыри, городом индивидуалистов, отгородившихся от соседей глухой стеной, за которой скрыты повседневные драмы несостоявшихся жизней.
«Разнобой между призваньем и судьбой» — вот, пожалуй, самый неотступный мотив его стихотворений, обычно представляющих собой лаконичные портреты-характеристики провинциальных жителей. Сарказм и жалость к этим людям переплетаются в его книгах настолько тесно, что сравнительно очень редки как образцы беспримесной сатиры, так и создания истинной лирики. Робинсон не отделял себя от тех, о ком писал. По Тильбюри-тауну он бродил не как сторонний наблюдатель. И даже в самых мрачных по колориту стихотворениях он не был пессимистом, отчаявшимся когда-нибудь изменить существующий порядок вещей. Ценность личности и ее неповторимого жизненного опыта для Робинсона не может быть зачеркнута, даже если человек по лености и по неумению бороться с обстоятельствами, подобно одному его персонажу, «различая вкус всех вещей, понятья не имел о Хлебе Жизни».

«Международная выставка современного искусства» Армори
Нью-Йорк, 1913 г.
По своему мировосприятию, да и по особенностям поэтики Робинсон оставался романтиком, завершая великую традицию, которая восходит к Брайанту и Э. По, но вместе с тем во многом он принадлежал новой эпохе, начавшейся на рубеже столетий. Его романтические представления о социальном процессе, как и этический ригоризм, сразу выдающий в Робинсоне наследника пуританской традиции, выглядели старомодно на фоне социологических увлечений и бунтарских порывов тех поэтов, которые начинали в «Поэтри». Однако новое поколение сумело по достоинству оценить содержательную емкость созданных Робинсоном картин и восприняло его книги как явление реализма, становившегося главным художественным ориентиром для молодой поэзии. Микромир Тильбюри-тауна был воспринят как модель макромира Америки. В сборниках Робинсона прочли не просто о провинциальных драмах, но об упадке американского духа и узнали собственные истоки в этой панораме одноэтажной Америки, где люди точно заживо погребены, хотя и продолжают жить, тосковать, спиваться и оплакивать карточные домики рухнувших надежд.
«Человек на фоне неба» (1916) — последняя книга лирико-философских стихотворений Робинсона, она была признана одним из крупнейших литературных событий эпохи, пусть в ней лишь завершалась работа, начатая еще в «Детях ночи» восемнадцатью годами раньше. Робинсону остался чужд верлибр, который вдохновлял почти всех новых поэтов 10-х годов, хотя, превосходно владея ямбом, он все чаще отходил от классических образцов, прозаизировал стих, отказывался от рифмы. Поздний период его творчества отмечен увлечением большой формой и мифологическими сюжетами, связанными главным образом с легендами артуровского цикла. В собрании сочинений Робинсона поэмы конца 10-х и 20-х годов («Мерлин», 1917; «Ланселот», 1920; «Тристрам», 1927, и др.) занимают несколько томов, но в историю литературы он все-таки вошел прежде всего как творец Тильбюри-тауна, соединивший в поэзии США век минувший и век нынешний. Он наметил принципы реалистической поэтики, которую исповедует следующее поэтическое поколение, выступившее в 10-е годы.
Общим для этих поэтов было чувство исчерпанности романтической традиции и интерес к поискам европейской литературы и живописи начала века, общей была и страсть к эксперименту, жажда обновления арсенала выразительных средств. Преодоление эпигонских тенденций, отказ от условностей, приводивших к странному разделению явлений действительности на «поэтические» и «непоэтические», отрицание канонов, требующих классической метрики, строфики, рифмы, едва ли не единодушное пристрастие к верлибру, воспринятому не только как стиховая система, а еще и как определенный способ видеть и изображать мир, — все это, за редкими исключениями, было присуще поэтам, начинавшим в 10-е годы и решительно вознамерившимся перевернуть бытующие представления о сущности и призвании искусства поэзии.
Заговорили о «поэтической революции» — поспешно и неточно. Понимаемая как создание некоего всеобщего современного стиля — поверх резких различий в мировоззрении, проблематике и традициях, подобная «революция», конечно, не могла состояться. Деятельность «Поэтри» подтверждала это с непреложностью. Перед участниками журнала стояла общая цель. Необходимо было найти действенные формы, средства, принципы ви́дения, которые позволили бы поэзии передать облик современной действительности, выразить особенности сознания человека новой исторической эпохи.
Однако не мог не возникнуть и вопрос об отношении к этой действительности и о содержательных функциях обретенного к середине 10-х годов художественного языка, необычного даже на фоне поэтики таких близких предшественников, как Уитмен или Робинсон. Разумеется, новая поэтика была содержательной и в процессе своего становления. Но до известной черты эта содержательность оставалась замкнутой рамками формального обновления: дело шло о том, чтобы найти образные соответствия ритмам урбанистической реальности, распаду традиционных норм жизни, строю чувств отчужденной личности, перестающей ощущать единство своего частного и социального бытия.
Эзра Паунд (1885—1972), уже в 10-е годы приобретший авторитет не только крупного поэта, но и главного теоретика молодой поэзии США, считал задачу всестороннего обновления художественного языка предусловием того нового эстетического качества, которое в ту пору он называл реализмом. Его понимание реализма была достаточно узким, исчерпываясь требованием точного свидетельства о текущей действительности и точного слова взамен пустых красивостей и банальностей, пленявших воображение поздних викторианцев, а тем более их эпигонов. Черпая свои идеи преимущественно из французских источников — из эстетики Флобера, из творческого опыта Стендаля, Паунд не находил в американских художественных традициях ничего подлинно органичного формирующейся поэтике «точного слова». Уитмена он отверг за «выспренность» и патетику, но, впрочем, еще резче отозвался об адептах «благопристойности», по примеру Стедмэна и Олдрича пестовавших чахлые оранжерейные цветы «чистого искусства».


























