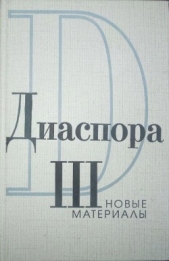Русские символисты: этюды и разыскания

Русские символисты: этюды и разыскания читать книгу онлайн
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В целом, однако, произведения из «Ночей и дней» были теми же «рассказами положений», что и более ранние опыты: герои повествований из современной жизни в большинстве своем — не характеры, а функции, фигуры сами по себе достаточно условные, а нередко плоские и заданные. Даже сочувственно относившийся тогда к творческим поискам Брюсова В. Ходасевич в статье о «Ночах и днях» заключал: «…самые движения женской души, их постепенный ход утаены от читателя несколько более, чем того хотелось бы. Сжатость повествования повела к схематизации их. Брюсов более делится с читателем окончательными своими выводами, чем наблюдениями за развитием драмы, происходящей в душе его героинь» [257]. А критик Л. Войтоловский указывал на ту же особенность со всей резкостью: «…у Брюсова любовь разносят не женщины, а какие-то обезглавленные тела» [258]. Действительно, полнокровную, живую человеческую индивидуальность Брюсову удается создать в своих аналитических этюдах о женской психологии далеко не всегда; интерес к художественному целому поддерживается по большей части благодаря изобретательным и психологически нетривиальным «положениям». Безусловную победу Брюсов одерживает в тех случаях, когда острота «положений» сочетается у него с неординарностью характера, как в повести «Последние страницы из дневника женщины» — первом крупном произведении писателя, в котором обозначилось его стремление к реалистическому правдоподобию действия и социальной трактовке персонажей. Героиня повести напоминает многих «жриц любви», населяющих поэзию и прозу Брюсова, автор наделил ее собственным ироническим складом ума и даже некоторыми из собственных убеждений и эстетических пристрастий, и в то же время она — плоть от плоти московского «большого света», обрисованного писателем рельефно и нелицеприятно.
«Малая» проза Брюсова 1910-х гг. распределяется по двум основным тематико-стилевым руслам. Первое — это исторические эпизоды («Рея Сильвия», «Последний император Трапезунда» и др.), реконструируемые по «научному» методу «Алтаря Победы». Второе — социально-психологические новеллы в духе «Ночей и дней». Приемы реалистической типизации становятся писателю все более необходимыми не только при создании таких произведений, как повесть из жизни 1860-х гг. «Обручение Даши», где, казалось бы, сам материал диктовал определенные изобразительные средства; они все более решительно сказываются и в разработке современных сюжетов. Реалистическая тональность, видимо, должна была преобладать в неосуществленном цикле рассказов о мужской психологии, параллельном «Ночам и дням» (об этом свидетельствует предполагавшаяся для этого цикла небольшая повесть «Моцарт»), В реалистической повествовательной манере выдержаны и наброски к большому незавершенному замыслу — роману из современной жизни с предположительным заглавием «Стеклянный столп» [259]. Это произведение обещало охватить широкую картину нравов современной Москвы, взятой многопланово, в развитии нескольких сюжетных линий, и должно было дать обобщенную характеристику «эпохи между двумя войнами и революциями». Не исключено, что, окажись творческий путь Брюсова более продолжительным, мы имели бы наряду с «Огненным Ангелом» и «Алтарем Победы» столь же масштабное произведение о смене культур и общественных укладов, построенное на непосредственно знакомом автору и пережитом им историческом материале. Однако почти вся художественная проза Брюсова приходится на дореволюционный этап его творчества, зримо запечатлев эволюцию в направлении историзма и социальной обусловленности изображаемого. Не опровергая первородства и приоритета поэтического наследия Брюсова, проза поэта остается неотъемлемой и по-своему важнейшей стороной его многогранной литературной деятельности.
БРЮСОВ И ИВАН КОНЕВСКОЙ
«Из личных встреч особенно много дала мне близость с К. Бальмонтом <…> и дружба с Ив. Коневским, которой, к сожалению, я не успел или не сумел воспользоваться в полной мере», — писал Брюсов в краткой автобиографической справке [260]. С Бальмонтом Брюсов общался на протяжении почти всей своей творческой жизни, при этом пылкая поэтическая дружба сменилась полосой взаимной вражды и отчуждения, а чувства личной привязанности корректировались отношениями сугубо литературными. Знакомство же Брюсова с Коневским продолжалось всего два с половиной года, оно не повлекло за собой никаких внешне примечательных событий и имело очень скромные литературные проекции, поскольку приходилось на пору замкнутого, «лабораторного» самовыражения русского символизма, еще только набиравшего силы для того, чтобы стать суверенным художественным направлением. Однако для творческого становления Брюсова встреча с Коневским имела исключительное значение и была для него едва ли не самым важным и крупным событием в годы формирования его первого зрелого поэтического сборника — книги «Tertia vigilia». Можно с уверенностью утверждать, что 1899 и 1900 гг., когда было создано большинство стихотворений этой книги, прошли для Брюсова во многом «под знаком Коневского». «Памяти Ивана Коневского и Георга Бахмана, двух ушедших», — гласит посвящение к переизданию «Tertia vigilia» в трехтомном собрании стихотворений Брюсова «Пути и перепутья» (T. 1, 1908), повторенное и в его «Полном собрании сочинений и переводов» (Т. 2, 1914).
Узнав о безвременной гибели двадцатитрехлетнего Коневского, последовавшей 8 июля 1901 г., потрясенный Брюсов писал А. А. Шестеркиной: «Умер Ив. Коневской-Ореус… Утонул, купаясь в р. Аа, в Лифляндии. Меня давно ничего так не поражало. <…> Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе. Пусть бы умер Бальмонт, Балтрушайтис, не говоря уже о Минском и Мережковском… но не он! не он! Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца. Я без Ореуса уже половина меня самого. <…> Он только начинал, намечал пути, закладывал фундамент (о! по грандиозному плану). И вот храма не будет — одни камни, одни чертежи, пустыня мертвая и небеса над ней» [261].
Чувство невосполнимости утраты друга и литературного сподвижника не было для Брюсова минутным, скоропреходящим переживанием. Гибель Коневского он ощущал остро на протяжении всей последующей жизни, образ покойного поэта неизменно оставался в центре его творческого сознания. Посетив десять лет спустя после смерти Коневского, летом 1911 г., Зегевольд (ныне Сигулда), где был похоронен поэт, Брюсов по праву писал в стихотворении «На могиле Ивана Коневского»:
Нина Петровская, сопровождавшая Брюсова в этом паломничестве на могилу Коневского и постоянно общавшаяся с ним во второй половине 1900-х гг., свидетельствовала в «Воспоминаниях»: «Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта, и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я <…> Ивана Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда» [263].