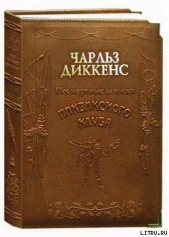Комментарий к роману Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба»

Комментарий к роману Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» читать книгу онлайн
Комментарий Густава Шпета к роману Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», составленный в 1934 г., не утратил своего историко-литературного значения и по сей день, ибо, задавшись целью ввести своих соотечественников в художественный мир Диккенса, широчайше эрудированный философ и полиглот создал уникальный путеводитель по Англии первой трети XIX столетия. На судьбе Комментария сказалась трагическая участь автора, расстрелянного в 1940 году. Переиздание Комментария — дань памяти замечательного ученого, но вместе с тем и «открытие» бессмертного произведения великого английского классика современному читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но критике нужны общие характеристики, чтобы из них «делать выводы», а из имени собственного, даже такого звучного, сделать вывод невозможно. Только при изрядном остроумии можно так обойти трудности, связанные с этим именем, как это сделал Честертон: написать книгу о Диккенсе, два раза мимоходом упомянуть Уэллера, прицепив ему один раз эпитет «бесподобный», и к концу книги открыть ошибку другого критика, состоявшую в том, что он не нашел в произведениях Диккенса «типа труженика-бедняка, который обладал бы высоким интеллектом». Честертон нашел этот тип — в лице Сэма Уэллера! Люди менее находчивые, чем Честертон, идут по проторенным путям малого сопротивления и единодушно утверждают, что Сэм Уэллер — тип и воплощение лондонского кокни и кокниизма. Во главе сторонников этого умеренного суждения стоит теперь В. Дибелиус (Ch. Dickens, 2-е изд., 1926). Он без колебаний объявляет Сэма Уэллера «остроумным, бравым кокни», и при этом разумеется, что Сэм Уэллер — не копия какого-либо индивида, а репрезентация «определенного класса». Так как с этим суждением читателю придется встречаться, то надо сказать несколько слов о том, что такое «кокни».
Этимология этого слова была предметом многих исследований и долго оставалась неясной, в особенности пока первоначальное значение слова хотели связать с последующими его значениями, известными из литературы. Последний авторитет в этой области (H. C. Wyld. The Universal Dictionary of the English Language, 1932), однако, без колебаний утверждает, что это слово в точности соответствует употребляющемуся и сейчас выражению «cock's egg» (буквально: петушиное яйцо, — термин, применяемый к маленьким яйцам, лишенным желтка и называемым у нас иногда «болтунами»). Будучи сначала презрительной кличкой изнеженного, глуповатого человека, а также испорченного ребенка, впоследствии, если верить тому же источнику, было перенесено жителем деревенской провинции на горожанина вообще и в конце концов приобрело то значение, которое наиболее распространено и сейчас и которое наиболее важно для нас: уроженец Лондона, из Лондона никуда не выезжавший, и более специфически: представитель мещанских низших слоев лондонского населения, говорящий с особым лондонским акцентом и обладающий особыми манерами и умонастроением, которое, предполагается, присуще только лондонцам.
Что касается употребления этого слова в английской литературе, то оно встречается уже в XIV веке, между прочим, у Чосера в «Кентерберийских рассказах». Но, кажется, первое прямое объяснение его смысла было дано только в конце XVI века Томасом Нэшем, современником Шекспира, который говорит о «юном наследнике или кокни, т. е. любимце матери». Встречается слово кокни и у Шекспира, притом дважды. Автор специального шекспировского лексикона Александр Шмидт (Schmidt), опираясь на оба эти места, определяет кокни как человека, который знает только жизнь города и знаком с аффектированными фразами, но не знает того, что известно даже ребенку. Хотя авторитет Шмидта, по-видимому, признается составителями современных общих словарей английского языка и они повторяют определение Шмидта, тем не менее едва ли можно согласиться с тем, что Шекспир употребляет это слово именно в том значении, если только внимательно вчитаться в самого Шекспира [23]. По-видимому, определение Шмидта основывается на понятии, сложившемся уже в XIX веке, хотя и не в специфическом его применении.

Дибелиус подходит к вопросу не филологически, а как историк литературы, и ищет художественного изображения «лондонского кокни» (что в узком смысле есть собственно тавтология). В лице Сэмюела Джонсона (1709—1784), законодателя литературных оценок XVIII века, — по крайней мере, в некотором, и притом широком, кругу, — он видит первого, кто выделяет лондонца в особый, высший тип, но при этом Джонсон имеет в виду высший культурный слой лондонского общества. Дибелиус называет затем ступени, по которым спускается литература в изображении разных слоев лондонской жизни, и лишь Диккенс впервые, по его мнению, добился того, что реалистически показал среду, в которой возникает тип кокни, и при этом сам не опустился до вульгарности. Схема Дибелиуса, может быть, интересна, но неполно передает картину. Дибелиус забыл или не сумел вставить в свою схему мисс Фанни Бёрни (Burney, мадам д'Арбле, 1752—1840) с ее «Эвелиною» (1778 г.) — писательницу, которой оказал покровительство тот же Джонсон и которая нарисовала образы кокни, чьи имена стали в Англии нарицательными. Ее семейство Бренгтонов и мистер Смит — представители узкого, тупого, самодовольного лондонского мещанства. Несомненно, огромные сдвиги в самом составе «среднего класса» (ч. 16) могли изменить и тип кокни, и отношение к нему других слоев общества. Но в каком направлении? Было ли это изменение в сторону уменьшения тупости или в сторону усиления комизма этого типа? Действительно ли он мог к 20—30-м годам XIX века превратиться в Сэма Уэллера?
Авторитетный в этом вопросе Дуглас Джерролд в своем очерке «Кокни» (1840 г.) утверждает, что, хотя кокни в собственном убеждении остался прежним воплощением ловкости, проницательности, рассудительности, духовности, знания жизни во всем ее разнообразии, в течение последней четверти XVIII века он очень потерял в глазах своих провинциальных собратьев. Было бы интересно проследить изображение этого типа в английской художественной литературе, начиная с мисс Бёрни и включая самого Диккенса; тогда только можно было бы с достаточной ясностью определить место в этой картине Сэма Уэллера. Мы не можем позволить себе такой далекий экскурс и потому вернемся к приведенным простым определениям и для сопоставления с Сэмом Уэллером дадим хотя бы одну не-диккенсовскую характеристику кокни.
Названные определения указывают три основные черты кокниизма: 1) рождение, воспитание и постоянное пребывание в лондонской среде, 2) особый лондонский язык, или «диалект», 3) особое лондонское мировоззрение и специфический характер.
Что касается первого пункта, то, судя по его знанию Лондона во всех деталях, по специфической образованности (о которой ниже) и по автобиографическим признаниям, Сэм Уэллер если и не рожден в Лондоне, то до такой степени продукт лондонской среды, что есть как будто все основания отнести его к представителям кокни. Но если быть точным, то некоторые сомнения возникают уже здесь. Маколей, известный английский историк (1800—1859). уверен что «кокни так же изумлялся бы всему в деревне, как если бы попал в готтентотский крааль». Этого же взгляда держится как будто и мистер Пиквик. По дороге в Бери-Сент-Эдмондс, обращаясь к Сэму, он высказывает предположение, что тот, должно быть, ничего в жизни не видал, кроме дымовых труб, кирпичей и известки (гл. 14, XVI, начало). Сэм, однако, его поправляет: он не всегда был коридорным, а сперва состоял мальчиком у разносчика, потом у ломовика, потом сделался рассыльным и только после этого коридорным и, наконец, слугою джентльмена; но не теряет надежды сам стать джентльменом (ч. 32) с трубкой во рту и беседкой в саду. Не случайно Сэм возражает мистеру Пиквику ссылкою на свою службу у ломового извозчика: она давала ему возможность ездить с грузами в провинцию, и, может быть, довольно глубокую. Нельзя при этом не вспомнить и об отце Сэма Уэллера. Как ни рано Тони Уэллер предоставил воспитание сына лондонской улице, исходя из педагогических принципов, столь же здравых, как и все педагогические принципы (гл. 17, XX), в некоторых чертах характера, в лексике и даже в методах (внутренних формах) остроумия Сэм воспроизводит и подчас повторяет отца. Между тем и по профессии Тони Уэллер мало связан с Лондоном, знает только свои постоялые дворы и обнаруживает полное неведение нравов и типов подлинного Лондона. Диккенс даже переходит меру, когда, желая, по-видимому, изобразить младенческую неосведомленность Тони Уэллера во всем, что касается Лондона, заставляет Сэма рассказать, будто в ответ на вопрос чиновника, к какому приходу принадлежит Тони Уэллер, последний назвал «Прекрасную Дикарку» (гл. 9, X), то есть постоялый двор, где была стоянка управляемой им кареты, вместо имени приходского святого или святой. Такая наивность старшего Уэллера невероятна, так как он не мог не знать, что Лондон, как и вся Англия, состоит из приходов (ч. 33) [24].