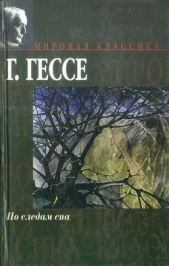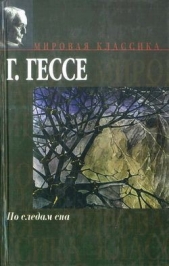Поэты

Поэты читать книгу онлайн
В книге собраны статьи о поэзии Вергилия, Ефрема Сирина, Григора Нарекаци и, Державина, Жуковского, Вячеслава Иванова, Мандельштама, Брентано, Честертона, Гессе.
«Опыты о старых и новых поэтах, составляющие эту книгу, написаны в разное время и в жанровом отношении не вполне однородны. Если я счел возможным соединить их вместе, то меня побудила к тому присущая им общая черта — установка на портретность. Порой это портретность в буквальном смысле. В других случаях портретность запрятана чуть поглубже. Каждая «картинка», на манер мозаики выкладываемая мною из слов, — только подступ к предмету, только догадка, стоящая под вопросом; и я стараюсь никогда не забывать о том, что любое поползновение употреблять метафоры, сравнения и эпитеты в функции доказательных аргументов погрешает против элементарной умственной честности. Моей целью было — ввести мою субъективность в процесс познания, но с тем, чтобы она в этом процессе «умерла». Не мне судить о том, когда мне это хотя бы отчасти удавалось, а когда решительно не удавалось. В одном я уверен: поэты, о которых я писал, не были для меня предлогом сказать нечто «по поводу». Они были для меня — ими самими, то есть чем–то несравнимо более интересным, нежели все, что я имею о них сказать.»(Из введения).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тем, что в первую пору жизни вступили,
И тем, что находятся во второй, именуемой
возмужалостью,
И старцам немощным, чьи дни подходят к концу, Грешникам и праведникам,
Гордецам самодовольным и тем, что корят себя за прегрешения,
Добрым и злым,
Боязливым и храбрым,
Рабам и невольникам,
Знатным и высокородным,
Средним и вельможам,
Крестьянам и господам,
Мужчинам и женщинам,
Повелителям и подвластным,
Вознесенным и униженным,
Великим и малым,
Дворянам и простолюдинам,
Конным и пешим,
Горожанам и селянам,
Надменным царям, коих держит узда грозною, Пустынникам, собеседующим с небожителями, Дьяконам благонравным, Священникам благочестивым, Епископам неусыпающим и попечительным, Наместникам божьим на престоле патриаршем, Что раздают дары благодати и рукополагают.
(Гл. 3, § 2, с. 6—30)
Широкое дыхание таких пассажей, которые разматываются, как нить, развертываются, как тонкая ткань, струятся, как река, довольно характерно для определенного типа словесного творчества, представляющего собой константу всей средневековой литературы в целом — от Атлантики до Месопотамии и от Августина до Вийона. Что касается специально Вийона, трудно не вспомнить перечень из его «Большого завещания», очень близкий к процитированным строкам Нарекаци еще и по топике. Вот этот перечень в буквальном переводе: «Я знаю, что бедных и богатых, мудрых и безумцев, священников и мирян, благородных и подлых, щедрых и скаредных, малых и великих, прекрасных и безобразных, и дам с высокими воротничками, любого сословия, причесанных как барыня или как мещаночка, возьмет смерть без всякого исключения». Вийон не может сказать «все вообще люди» — он должен эксплицировать объем этого понятия через долгую цепочку антитез.
Но нас сейчас больше интересует не топика исчисления человечества путем дихотомической классификации, имеющая многочисленные прецеденты уже в Ветхом завете, — «одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы» (Екклесиаст, 9, 2), — но интонация как таковая: неудержимый напор словесного потока, когда каждое слово сейчас же варьируется в ряде синонимов, каждая метафора — в последовательности дополнительных метафор. Вот взятые наугад примеры из «Размышлений» Августина: «Дай мне дела милосердия, труды человеколюбия: сострадать страждущим, вразумлять заблудших, пособлять злосчастным, помогать убогим, утешать скорбных, подымать угнетенных, нищих насыщать, плачущих веселить, оставлять долги должникам, прощать согрешающих против меня, ненавидящих меня любить, за зло воздавать добром, никого не презирать, но всем воздавать честь» (1, 3); «Какое зло сотворил ты, сладостный отрок, что судим ты таким судом? Какое зло сотворил ты, возлюбленный юноша, что с тобою поступили столь сурово? В чем преступление твое, в чем грех твой, в чем вина твоя, чем заслужил ты смерть, чем навлек на себя казнь?» (8, 1).
В древнерусской литературе подобная интонация особенно характерна для Епифания Премудрого и авторов его круга: «…Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словесем похвал ении твоих, слово π лету щи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словесе похваление събираа, и приобретав, и приплетаа, паки глаголя: что еще тя нареку, вожа заблужждыпим, обретателя погыбшим, наставника прелщеным, руководителя умом ослепленым, чистителя оскверненным, взискателя расточеным, стража ратным, утешителя печалным, кормителя алчющим, подателя требующим, наказателя несмысленым, помощника обидимым, молитвеника тепла, ходатаа верна, поганым спасителя, бесом проклинателя, кумиром потребителя, идолом попирателя, богу служителя, мудрости рачителя, философии любителя, целомудрия делателя, правде творителя, книгам сказателя, грамоте перьмстей списателя», — обращается Епифаний к своему герою [118].
Именно в применении к русскому материалу такая поэтика патетического «нанизывания», то есть эмоционально–суггестивного использования синонимов, очень отчетливо описана Д. С. Лихачевым: «Здесь синонимы обычно ставятся рядом, они не слиты и не разделены. Автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а самое общее, что есть между ними…» [119] Роль «синонимических» сравнений аналогична роли лексических синонимов: их сочетание «не позволяет вниманию читателя задержаться на их ощутимой стороне, стирает все видовые отличия, сохраняя лишь самое общее и абстрактное и оставляя у читателя ощущение значительности того, о чем идет речь» [120]. Сами древнерусские авторы называли цель своих стремлений «словесной сытостью». Ее поиски «заставляют авторов давать длинные перечисления («слезы тъплыя, π л акания душевная, въздыханиа сердечная, бдениа повсенощная, пениа трезвенная, молитвы непрестанныя, стояния неседалная, чтениа прилежная, коленопреклонения частаа»), прибегать к перифразам («не отбежа абие ту от места того, не оттече инамо камо, и не отиде никамо же оттуда»), сочетать отрицание с утверждением противоположного («не победихом… но паче веема побеждени быхом»), разлагать родовое понятие на все входящие в него видовые (вместо «на богослужение» — «на заутреню, и на литургию, и на вечерню»), приводить все виды того или иного понятия («болваны истуканныя, изваянныя, издолбенныя, вырезом вырезаемаа»), перечислять признаки («кумиры глухии, болваны безгласный, истуканы безсловесныи») и т. д.» [121]
К этой характеристике мало что можно добавить, кроме одного очень важного момента. Речь идет о стилистической традиции, в которой неразличимо сближены начала, представляющиеся нам несовместными, — шумное витийство и тихая медитация, игра со словами и вникание в смысл, лежащий за словами. В этом смысле характерен историко–культурный казус Августина, который мог на пороге средневековья перейти от роли ритора к роли медитатора, так мало изменив в чисто стилистических приемах своей прозы. Для средневековой медитативной литературы особенно много дала техника риторической «амплификации» — искусства делать речь пространной и тем повышать ее внушающую силу. Ритор, владеющий такой техникой, будет подбирать для одного и того же предмета все новые слова, имея в виду усилить блеск устрояемого им словесного праздника, словесного фейерверка; но для человека, совершающего акт медитации, такая же процедура нужна ради того, чтобы все глубже и глубже уходить внутрь предмета, в пределе достигая уровня, на котором слова уже не существует. Так, Псевдо–Дионисий Ареопагит, неизвестный грекоязычный автор V века, щедро излив в трех своих «катафатических» трактатах потоки синонимов и параллельных метафор, заявляет под конец своего корпуса, в последнем, «апофатическом», трактате: «Здесь мы обретаем уже не краткословие, а полную бессловесность» [122]. Ему нужно было очень много слов, чтобы выйти за пределы слова [123]. Его пример многое проясняет в практике Нарекаци.
Обратим внимание на смысловую структуру обращения к Богу в § 2 той самой тридцать второй главы, которая открывается приведенным выше грандиозным перечнем грешников и праведников, с которыми соединяет себя Григор из Нарека. Сначала идут очень богатые парафразы отвлеченного философского понятия высшего блага, summum bonum, искусно перемежаемые библейскими метафорами «наследия» и «жребия», но в целом держащиеся линии античного идеализма, а на чисто литературном уровне поражающие просто своей неисчерпаемостью — тем,