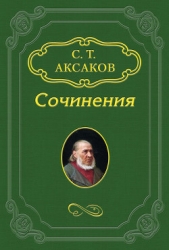Гоголь

Гоголь читать книгу онлайн
Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
6 ноября 1846 г. Ш. писал П. А. Плетневу из Москвы в Петербург по поводу цензурных трудностей, с которыми столкнулась рукопись «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Не могу не откликнуться вам сейчас же на ваше письмо, которое потрясло меня вчера. Благодарю, благодарю вас и за себя и за Гоголя, и за всех любящих его. Вы один только в наше время можете делать то, что вы для него делаете. Никитенко потерял и последнее достоинство в моих глазах. Я считал его благородным цензором и благородным человеком, но он, как видно, ни то, ни другое. Какое же право он имел оглашать рукописи, которые вверяются ему для прочтения? Неужели и общественное мнение против этого не действует? С одной стороны, Никитенко притесняет Гоголя, а с другой — он и его ватага распускают и в Петербурге, и в Москве самые страшные о нем слухи. Эти люди не действуют без умысла. Но притеснения Никитенки будут оглашены и здесь. Слухам о Гоголе верить нельзя, пока не выйдет книга. Здесь уже хоронят его литературный талант; говорят, что он отказывается от всех своих сочинений, как от грехов (хотя и печатает вторым изданием „Мертвые Души“ и „Ревизора“); посягают даже на благородство его мнений. Не говорю уже о дальнейших толках, что он подпал влиянию иезуитов, что он сошел с ума. Город NN в „Мертвых Душах“ с своими толками о Чичикове здесь в лицах. Источник всего этого главный — собрания у Никитенко и его цензурная нескромность. Противодействовать этому может только самый выход книги и издание „Мертвых Душ“. Тогда будут данные, по которым публика сама рассудит Гоголя. Я понимаю, что решительное изъявление мнений, которые в нем не новы, но только созрели, могло озлобить всю эту партию и вызвать ее на такие действия против прежнего ее любимца. Понимаю, как она может против Гоголя неистовствовать; но я никак не мог вообразить, чтобы она могла унизиться до таких подлых против него действий. Вы не поверите, с какой жадностью хотел бы я прочесть то, что уже напечатано (набрано в типографии. — Б. С.). Если это не нескромная просьба, то сделайте милость, перешлите мне хоть корректурные листы того, что уже напечатано. Вы можете быть уверены в моей осторожности, но надобно же какое-нибудь противодействие, основанное на данных, а до сих пор все эти данные были в руках только одной стороны, кроме вас, — стороны враждебной обнаруженным мнениям Гоголя. Здесь есть вестовщики, которые явно всем рассказывают, что они читали рукопись Гоголя у Никитенки, что там прочли они ужасы; цитируются места, фразы. Первое письмо ваше несколько успокоило толки в кругу мне знакомых. Объявляют за важную весть, что Белинский, который будет заведывать критикой Современника, изменил уже свое мнение о Гоголе и напечатает ряд статей против него. Это послужит только к чести Гоголя — и давно пора ему для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский».
11 февраля н. ст. 1847 г., узнав о кончине Н. М. Языкова из письма Ш. от 30 декабря 1846 г., где также содержалась критика «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь писал Ш. из Неаполя: «Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на Небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех некоторых особенностей, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однакож, ни в сочинениях своих, ни даже в беседах с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! да удостоит нас Бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства и ликованья вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с ангелом на Небесах. Благодарю тебя за то, что ты, наконец, заговорил со мной откровенно и отважился сделать мне упреки. Их я жду отовсюду, ищу ото всех, хотя еще никто не верит словам моим и думает, что я морочу людей. В упреках твоих есть и справедливая и несправедливая сторона, но то и другое для меня драгоценно, потому что показывает мне, во-первых, в каком виде я стою в глазах твоих, во-вторых, заставляет меня все-таки лишний раз оглянуться и построже рассмотреть себя. Вот что я нахожу теперь нужным сказать тебе в ответ на них, — сказать не с тем, чтобы оправдываться, но чтобы изгнать из мыслей твоих беспокойство обо мне, которое, как я замечаю, поселили в тебе мои неловко и неразумно выраженные слова. Начну с того, что твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, самоуслаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы. На теориях у меня также ничего не основывается, потому что я ничего не читаю, кроме статистических всякого роду документов о России да собственной внутренней книги. Относительно надписи Погодина ты также попал в заблуждение. Я давно уже, слава Богу, ни на кого не сержусь, но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему небольшими и неважными, и несколько даже уязвить душу. Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать, как следует, язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь. Он великодушен, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому. Наконец в заключение и в благодарность за упреки я присовокупляю здесь упрек тебе, — упрек в пристрастии, которое заметили в тебе не только я, но все те, которые тебя знают или же прочли твои сочинения (имеется в виду написанная Ш. „История русской словесности, преимущественно древней“. — Б. С.). Дух пристрастия у тебя слышался всегда во всем. Пристрастие к земле, к людям, даже к собственной своей одной какой-нибудь мысли, которую ты будешь долго прилаживать и пригонять ко всему. Давно ли говорили почти все, что Шевырев никак не может обойтись без Италии и где бы то ни было, кстати или некстати, приклеит ее. Этот дух пристрастия стал исчезать в тебе в последних твоих сочинениях, по мере того, как стал ты приближаться к разумной средине всего. Его нет почти вовсе в твоем курсе. Я думал, что оно уже в тебе исчезло. Но теперь вижу, что оно сохранилось еще во всей силе к тем людям, которых ты любишь. Ты в них не видишь недостатков; если ж и видишь, не высказываешь; высказываешь недостатки ты одним врагам своим или же тем, которые огорчили. И к чему между нами эта осторожность, чтобы как-нибудь не обжечь словом? Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья, а мы, слава Богу, не дети. Да и пора уж быть нам наконец мужами. Зачем же мы себя называем избранными и лучшими других, когда мы не умеем переносить того, что не только переносит легко христианин, но даже приемлет благодарно, как лучшее даяние? Ну, на что, например, похож твой нынешний поступок со мною? В продолжение долгого времени ты молчал, таил перед мною все чувства и помышленья обо мне и только на могиле Языкова осмелился заговорить, выражаясь, что одна могила Языкова внушила тебе смелость. Да что же я? Лютый зверь какой, к которому даже и подступиться страшно? Съел бы я тебя, что ли? Стыдно тебе! Такой друг никогда не может быть вполне полезен. По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною и таких своих помышлений обо мне, которые тебе самому показались бы неосновательными, не смущаясь даже боязнью сказать глупость или ошибиться. Мы все люди и потому на каждом шагу говорим глупости и ошибаемся. Что я скрытен — это совсем другое дело. Скрытен я из боязни напустить целые облака недоразумений моими словами, каких случилось немало наплодить доселе; скрытен я оттого, что еще не созрел и чувствую, что еще не могу так выразиться доступно и понятно, чтобы меня как следует поняли. Но тебе даже грех быть со мной скрытну; я бы тебя понял. Сейчас принесли мне твое письмо со вложением векселя. Ты напрасно мне его прислал; в деньгах я покаместь не нуждаюсь. Бестолковщина по части книги моей в Петербурге и другие непредвиденные препятствия отодвинули отъезд мой на Восток, а потому деньги храни у себя до моего востребования. Я получил уже деньги от Плетнева вместе с известием о выходе моей книги в обезображенном цензурою виде. Плетнев сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись с ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь — всё пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу Государя и не сомневаюсь в пропуске, но всё несколько неприятно. В прежнем моем письме я поручал второе издание в ее полном виде тебе. Но теперь вижу, что это замедлит ее появление; пересылка, медленность московских типографий, наконец, недоумения, которые могут произойти по поводу вставок всех выпущенных мест и надлежащего их размещения, — всё это заставляет меня вновь возложить это дело на Плетнева. Не позабудь, однакож, передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других; поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим. Еще попрошу тебя об одном одолжении. Доброго моего Языкова уже нет на земле, а потому и некому баловать меня присылкою книг, что с такой охотой и радушьем исполнял он, а потому не позабудь хотя изредка, если узнаешь, что кто-нибудь отправляется за границу, присылать мне. Я бы теперь хотел иметь русские летописи, изданные Археографической комиссией, — их, кажется, уже три, если не четыре тома, — и Снегирева „Описание русских праздников и увеселений“, присовокупив к нему его книгу: „Русские в своих пословицах“. Тот, кто возьмет их, если не довезет до Неаполя, то может оставить их во Франкфурте у Жуковского. Об этих книгах я просил еще недавно Языкова в маленьком письмеце… не зная, что он уже покойник в ту минуту, когда я писал к нему».