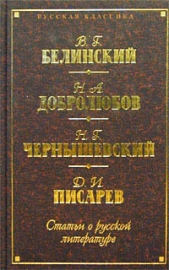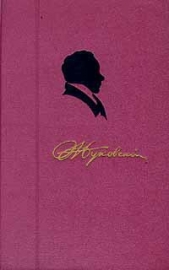Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
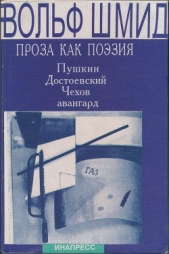
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард читать книгу онлайн
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крайне двусмысленно интертекстуальное значение итальянских слов «Se amor non è, che dunque?…». Эти слова, во–первых, должны восприниматься как прямая цитата из 132 сонета Петрарки «In vita di Madonna Laura» («Ha жизнь Мадонны Лауры»). В таком межтекстовом отношении они ассоциируют выраженную в сонете идею о предназначенной судьбой любви. Но можно рассматривать эту строку и как цитату, отсылающую читателя к фривольным «Ragionamenti» («Рассуждения») писателя Возрождения Пьетро Аретино. [180] В «Третий день» разговоров куртизанок, на который Пушкин намекает также и в «Скупом рыцаре», эта строка поется кавалерами, которые проезжают мимо дома куртизанки Нанны, держа в руках «карманного Петрарку». [181] Кто эту аллюзию заметит, тот не сможет не сравнить холодную Марью Гавриловну с хитрой Наиной, притворяющейся холодной только для того, чтобы возбудить интерес кавалеров. Куртизанке эта стратегия приносит успех, и она констатирует: как вокруг хлебного амбара воробьи, так вокруг ее дома кружатся любовники, чтобы всовывать свои клювы в [ее] хлебный амбар» («per volere porre il becco nel mio granaio») [182]. Как бы читатель ни захотел объяснить эквивалентности обеих дам, активизация фривольного подтекста непременно бросает некую тень на холодную Марью Гавриловну.
Не показывает ли страдающая от любопытства и нетерпения героиня в борьбе за «романическое объяснение» (84) молчаливого гусара крайней ветрености? Она пускает в ход все средства, чтобы побудить Бурмина, расположение к себе которого она не могла не заметить, признаться ей в любви, и это только затем, чтобы открыть ему, что она уже замужем. Не играет ли она с ним столь же жестоко, как он подшутил над ней в бурную ночь?
Так как Бурмин не собирается бросаться к ее ногам, она подготовляет «развязку самую неожиданную» (84). Бурмин, нашедший Марью Гавриловну «у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героиней романа» (85), наконец побежден «военными действиями» (84) женщины и начинает ей объясняться: «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слушать вас ежедневно…» (85). Марья Гавриловна вспоминает первое письмо St. Preux. В начальных строках романа в письмах Жана–Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» домашний учитель Сен–Прё признается своей ученице Юлии, что он, который ежедевно с ней видится, должен бы избегать встреч с ней. Выражение же «милая привычка» («la douce habitude») находится у Руссо не в первом письме, а в начале самого длинного и для сюжета важного письма (часть III, письмо 18). Там есть и те мотивы, которые Пушкин, возможно, хотел активизировать в своей повести, а именно мотивы любви с первого взгляда и роковой предназначенности любовников друг другу. Юлия объясняет возлюбленному, что сердце ее принадлежало ему «с первого взгляда» («dès la première vue») и что они «сотворены друг для друга» («faits l’un pour l’autre») [183]. Полемизируя с С. Ричардсоном, который позволил себе насмехаться над расположением, возникающим с первого взгляда и основанным на «необъяснимых соответствиях» («conformités indéfinissables»), Руссо несколько раз заставляет своих героев излагать свою теорию любви. [184] Аллюзию на Руссо можно понять как намек на то, что беглый взгляд в слабо освещенной церкви, который позволяет Марье Гавриловне и Бурмину увидеть друг друга, кладет начало любви, основывающейся на тех «необъяснимых соответствиях», существование которых защищал французский писатель.
Цитируя Руссо, Бурмин, быть может, думает о противоречивых чувствах Сен–Пре, колеблющихся между долгом и любовью. Как принадлежащему к третьему сословию гувернеру, так и женатому гусару нужно было бы избегать встреч с возлюбленной. Но подобно своему предшественнику, Бурмин замечает, что поздно «противиться судьбе» своей. Ссылка на Руссо здесь подтверждает естественность и неминуемость любви.
Марья Гавриловна же, вспоминая первое письмо Сен–Пре, думает, скорее всего, о другом мотиве «Новой Элоизы». Хотя она замужем, она все‑таки старается побудить молчаливого Бурмина к объяснению и, по всей очевидности, предназначает ему на будущее роль самоотверженного любовника. В романе Руссо возмущенный отец запрещает Юлии видеться с учителем и заставляет ее выйти замуж за дворянина. Сен–Пре, вернувшегося после длительной поездки вокруг света, супруги принимают в дом учителем. Вблизи верной мужу Юлии Сен–Пре ведет жизнь, посвященную самоотверженной любви. Такова и та роль, которую предназначает Марья Гавриловна Бурмину. Но и у Бурмина есть «ужасная тайна», которая воздвигает между ними «непреодолимую преграду» (85) , и он, в свою очередь, намекает на мотив самоотверженной любви:
«воспоминание о вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей» (85) [185].
Не бедный прапорщик Владимир, слишком буквально превращавший литературу в жизнь, а ветреный, начитанный Бурмин оказывается суженым не менее ветреной любительницы литературы. Не доверяя литературным стереотипам, Бурмин и Марья Гавриловна все же пользуются ими каждый в своих целях. Психологическая и литературная дуэль любовников показывает, что они в буквальном смысле слова суженые.
Из многочисленных условных мотивов Пушкин составил сюжет, который своей неправдоподобностью далеко выходит за рамки всех своих подтекстов. Выявляя в каждой детали прозу жизни, сюжет как целое ничего общего с каким‑либо реализмом не имеет. Мало того, неправдоподобности, поднятые на смех уже современными критиками [186], он не только не пытается скрыть, а скорее даже подчеркивает. Шансы Бурмина найти незнакомую жену после переезда Марьи Гавриловны равны нулю. То, что Марья Гавриловна, переезжая в ***ское поместье, становится соседкой своего мужа, является слишком уже невероятной случайностью. Все эти невероятности нельзя отнести ни на счет чувствительной рассказчицы, ни на счет наивного Белкина. Пушкин, однако, не просто пародирует условные литературные приемы. Вышивая «новые узоры по старой канве» [187], он противопоставляет изжитым сюжетам увода невесты, qui pro quo женихов и опознавания супругами друг друга синкретический контрафакт, в котором сюжет мотивирован характером героев. Но характер не является единственной мотивировкой. Восстанавливая в их правах, определяемых, правда, новым образом, случайность и судьбу, старых законодателей новеллы, Пушкин исправляет и «истинные происшествия», которыми управляет одно лишь остроумие человека. Власть судьбы в повести «Метель» выражается прежде всего в развертывании речевых клише, сохраняющихся при смене сюжетов и сбывающихся в самом неожиданном смысле.

СУДЬБА И ХАРАКТЕР
О мотивировке в «Капитанской дочке» [188]
Две мотивировки в прозе Пушкина
Пушкин вводит в русскую прозу психологическую мотивировку. Значит ли это, что Пушкин психолог? Да, это утверждение вряд ли может быть оспорено. Оно, однако, верно лишь со своего рода парадоксальной оговоркой. Пушкинский психологизм, по крайней мере в «Повестях Белкина», существует in absentia, в отсутствии, т. е. он спрятан, но спрятан именно на поверхности текста. На первый взгляд в тексте не имеется никаких психологических мотивов. Поэтому «Повести Белкина» могли восприниматься современниками как «анекдотцы» — по выражению Булгарина — или как «сказки и побасенки» — по словам Белинского.