История всемирной литературы Т.4
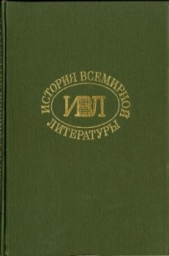
История всемирной литературы Т.4 читать книгу онлайн
Том IV охватывает литературу XVII столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Молодец в «Повести о Горе-Злочастии» хоть и безвольный, тем не менее потенциальный бунтовщик, один из тех представителей голытьбы, которая легко примыкала к различным восстаниям, особенно крестьянским, стихийным по своей природе. Недаром автор повести и сам говорит о молодце: «А нагому-босому шумит разбой». Горе «научает молодца богато жить, убити и ограбити, чтобы молодца за то повесили».
Не случайно и народные песни о разбойниках сочувственно называют их «детинушками», «сиротинушками», «бесприютными головушками».
Это о нем, о таком же молодце, как в нашей «Повести» сказано у Радищева: «Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива. Если хочет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в истории российской».
Автор «Повести о Горе-Злочастии» создал обобщенный образ молодого человека своей эпохи, доведенного до последней ступени падения и в этом своем падении находящего даже веселье — в обретенной беззаботности. В тот самый момент, когда молодец решается утопиться в реке с отчаяния, появляется из-за камени Горе. Образ его выразителен до предела: «Босо-наго, нет на Горе ни ниточки, еще лычком Горе подпоясано». Оно не обладает ничем, кроме богатырского голоса, и этим богатырским голосом оно наставляет молодца: от Горя не уйти никуда, а следовательно, «не буди в горе кручиноват, а в горе жить — не кручинну быть, а кручинну в горе погинути». Молодец покорился Горю и пошел «весел-некручиноват», а сам, идучи, думу думает: «Когда у меня нет ничего, и тужить мне не о чем». Только запел веселую напевочку, и сразу обрелись у него доброжелатели. Молодца перевезли за реку, напоили и накормили, дали ему порты крестьянские. Вся эта сцена гениальна по глубокому проникновению в самую суть психологии обездоленного человека.
ПРОТОПОП АВВАКУМ И РАЗВИТИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Одним из проявлений раскрепощения личности в XVII в. был автобиографизм. Впервые как массовое явление автобиографизм дал себя знать еще в первой четверти XVII в. — в повестях о Смуте. Позиция мемуариста появляется даже у агиографа. Сын Ульянии Осоргиной, Дружина Осоргин пишет житие своей матери с позиций человека, близкого Ульянии.
Автобиографии составляют во второй половине XVII в. многие деятели этого времени: Епифаний и Аввакум, игумен Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатий Иевлевич. Автобиографическими элементами полны стихи Симеона Полоцкого и справщика Савватия.
Если профессиональные писатели-ремесленники появляются уже в XV в. (Пахомий Серб), то теперь, в XVII в., появился тип писателя, осознающего значительность того, что он пишет и делает, необыкновенность своего положения и свой гражданский долг. Самосознание писателя в XVII в. стоит уже на уровне Нового времени.
Рост самосознания автора был одним из симптомов осознания в литературе ценности человеческой личности.
Самосознание личности, автобиографизм в творчестве с особенной силой сказались в XVII в. в произведениях протопопа Аввакума (1621—1682). Крайний консерватор в своих убеждениях, вождь движения за старую веру против церковных реформ патриарха Никона, Аввакум был одновременно ярким новатором в литературе, энергично уничтожавшим средневековый литературный этикет, стремившимся к полной простоте самовыражения.
Ему принадлежит около ста произведений. Он их писал и в ссылке, и особенно в пустозерской земляной тюрьме, куда он был отправлен в 1667 г. Отсюда он рассылал послания, письма, беседы и здесь по благословению своего духовного отца Епифания, тоже писателя, с которым он был вместе заточен в срубе, составил свое знаменитое «Житие» (1672—1675), ныне переведенное на все главные языки мира.
«Житие» это не только автобиография — это и проповедь необходимости твердо и до конца стоять за старую веру. Он не только негодует на своих преследователей, но и показывает, как они ничтожны, и с этой позиции даже жалеет их. Он не только описывает свои страдания, но и рассказывает, как легко можно их переносить с верою в сердце. Иногда он рассказывает о своих страданиях, сбиваясь со строго хронологической последовательности, ибо он дает прежде всего примеры верности вере и веры в старую веру.
Произведения Аввакума, и особенно его «Житие», отходят от старого, традиционного творчества Средневековья и целиком принадлежат личностному творчеству Нового времени, несмотря на то, что отдельные традиционные элементы в них все же наличествуют. Аввакум пользуется традиционными элементами, но не по традиционному назначению, он огрубляет их насмешкой, иронией, соединяет с грубыми просторечными выражениями, как бы играя, придает им другой смысл или переводит в резко натуралистический план. Поэтому произведения Аввакума поражают какой-то особенной свободой самовыражения, непосредственностью, необычайной искренностью. Сидя в земляной тюрьме, в ужасных условиях и ожидая смерти, он как бы освобождался от всяческой земной суеты, от заботы о внешней форме своих произведений, от различных литературных «приличий» и стремился как можно быстрей приблизиться к цели своих писаний. Для него полностью отсутствует литературная обрядность, занимавшая такое большое место в традиционном средневековом искусстве.
Ценность чувства, непосредственности, внутренней, душевной жизни человека была провозглашена Аввакумом с исключительной страстностью. Сочувствие или гнев, брань или ласка — все спешит излиться из-под его пера. «Ударить душу» перед богом — вот единственное, к чему он стремится. Ни композиционной стройности, ни тени «извития словес» в изображении человека, ни привычного в древнерусской учительной литературе «красноглаголания» — в «Житии» Аввакума нет ничего, что стесняло бы его непомерно горячее чувство во всем, что касается человека и его внутренней жизни.
Ни один из писателей русского Средневековья не писал столько о своих чувствах, как Аввакум. Он тужит, печалится, плачет, боится, жалеет, дивится и т. д.

Автограф протопопа Аввакума (из Жития Аввакума)
1672—1673 гг.
Ленинград, ГПБ
В его речи постоянны замечания о переживаемых им настроениях: «ох, горе мне!», «грустно гораздо», «мне жаль»... И сам он, и те, о ком он пишет, то и дело вздыхают и плачут: «...плачуть миленькие, глядя на нас, а мы на них»; «умному человеку поглядеть, да лице заплакать, на них глядя»; «плачючи кинулся мне в карбас»; «и все плачют и кланяются». Он стремится вызвать к себе сочувствие читателей, жалуется на свои слабости, в том числе и самые будничные. Нельзя думать, что это оправдание человека касается только самого Аввакума. Даже враги, даже его личные мучители изображаются им с симпатией к их человеческим страданиям. Сочувствие к своим мучителям было совершенно несовместимо со средневековыми приемами изображения человека в XI—XVI вв. Это сочувствие стало возможно благодаря проникновению писателя в психологию изображаемых лиц. Каждый человек для Аввакума не абстрактный персонаж, а живой, близко ему знакомый. Аввакум хорошо знает тех, о ком он пишет. Они окружены вполне конкретным бытом. Он знает, что его мучители только выполняют свою стрелецкую службу, а втайне, может быть, тяготятся своими обязанностями, и поэтому не сердится на них.
Изображение личности вставлено в бытовую рамку и в других произведениях русской литературы XVII в. — в «Повести о Шемякином суде», в «Службе кабаку», в «Повести о попе Савве», в «Сказании о крестьянском сыне», в «Стихе о жизни патриарших певчих» и др. Во всех этих произведениях быт служит средством опрощения человека, разрушения его средневековой идеализации. В отличие от всех этих произведений приверженность к быту достигает у Аввакума совершенно исключительной силы. Он облекает в бытовые формы вполне общие и отвлеченные представления. Художественное мышление Аввакума все пронизано бытом. Подобно фламандским художникам, переносившим библейские события в родную им обстановку, Аввакум даже отношения между персонажами церковной истории изображает в социальных категориях своего времени: апостол Павел у него — «богатый гость», Златоуст — «торговый человек», пророки Давид и Исайя — «посадские люди».
























