История всемирной литературы Т.8
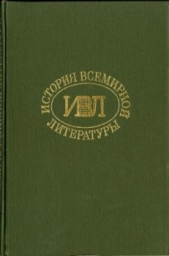
История всемирной литературы Т.8 читать книгу онлайн
Восьмой том посвящен литературе рубежа XIX и XX веков, от 1890-х годов, т. е. начала эпохи империализма, до потрясших в 1917 г. весь мир революционных событий в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как и Малларме, Аполлинер вверяет себя покровительству легендарного Орфея, который «изобрел все искусства, науки и, будучи сведущ в магии, знал грядущее» (послесловие Аполлинера в книжке его прелестных в своем милом лукавстве четырех-пятистрочных миниатюр с гравюрами по дереву Рауля Дюфи — «Бестиарий, или Кортеж Орфея», 1911). Однако же, в противовес Малларме, Аполлинер не бьется над извлечением корня всех вещей — их единосущной непреложности, а ждет «орфических» озарений от самого бурлящего окрест жизненного круговорота. Он гостеприимно впускает в поле своего зрения прихотливую случайность, будь то врезавшееся в память происшествие, редкое ученое или, наоборот, обиходное словечко, поразивший своей броскостью штрих, мелькнувшее в уме фантастическое допущение. И предоставляет им вольно пересекаться, сплетаться, размежевываться с другими — столь же случайными с виду. Единство целого тут не задано выдержанностью плавно и правильно развертывающегося письма в одном ключе, а вырастает из чересполосицы разнотемья при стыковке впрямую, без рассудочных прокладок, весьма несхожих впечатлений и мыслей. Сращение их между собой не нуждается ни в каких обоснованиях, кроме безошибочной меткости воображения. И возможно не иначе как в извилистом русле свободного стиха с его гибким неравнострочием. Он всякий раз перестраивает свой лад на перепадах от признаний в самом сокровенном, оброненных как бы мимоходом, к нестесненно громкому красноречию или устной беседе, от строк, вытянутых в распространенные цепочки, — к совсем кратким, зависшим в одиночестве над пустотой пробелов-отбивок. Но при всех своих метаморфозах это разнопорядково-безразмерное течение исповеди остается в берегах всегда и везде верного себе аполлинеровского голоса. Непринужденный и проникновенный, он изощренно подвижен в своих приливах, отливах, переливах из отрывков обиходно-разговорных в периоды стройно подтянутые, чеканные или же в обрывисто недосказанный, ударный словесный мазок.
Два пласта «Алкоголей» — один подкупающе привычный и второй поисковый — прослаивают друг друга в книге так, что от нее исходит впечатление несомненной выстроенности. Аполлинер как бы предпринимает здесь путешествие в недра памяти сердца. Увлекаемый необратимой чередой дней, он в первой половине «Алкоголей» лелеет мысль возродить дорогие ему призраки рассыпавшейся в прах любви. Но тщетно: ее заклинание-воскрешение в песнях оборачивается прощальным изживанием, после чего, во второй половине книги, мало-помалу пробивается и крепнет, пусть не без колебаний, устремленность к иным, опять манящим далям, порыв ввысь, навстречу другим небесам и щедрому солнцу. Присутствие такой подспудной смысловой канвы подсказано благодаря окантовке книги двумя самыми весомыми пьесами: открывающей ее «Зоной» и завершающим «Вандемьером». Между собой они еще и перекликаются, по-разному отсылая к самому названию «Алкоголи»: неприкаянно бродящий по Парижу сутки кряду Аполлинер «Зоны» пьет по дороге у замызганной стойки жгучий спиртной напиток, напоминающий ему своей горечью всю и окружающую, и собственную томительную запутавшуюся жизнь, тогда как в «Вандемьере» он — раблезианская «глотка Парижа» — с наслаждением утоляет жажду вином урожая всех краев Франции. И это сок тех самых виноградных гроздьев, что оплодотворило кровью своих полуденных лучей встававшее на заре в последней строке «Зоны» «солнце с перерезанной шеей», которое горизонт, будто топор гильотины, каждое утро отрубает от тела Земли. В результате стержневое течение «Алкоголей» неспешно и без прямолинейности — со своими завихрениями, попятными струями, рывками вперед — несет от умонастроений бесприютного скитальчества и выплеснувшейся под занавес хмельной радости быть в кровном родстве со вселенской житницей.
С «Алкоголей» Аполлинер отказался от знаков препинания — шаг, по поводу которого было пролито немало чернил. Упреки в желании поразить бесполезной, а то и мешающей причудой он сразу отвел, пояснив, что поступил так по здравому размышлению: ведь «самый ритм и разбивка стихов паузами и есть подлинная пунктуация, во всем прочем никакой нужды нет», если тщательно выполнена ритмическая проработка словесно-стихотворного потока. Введенное впервые столь последовательно, новшество Аполлинера прижилось с тех пор у многих лириков Франции, подчас и за ее пределами.
Другая затея всегда неуемно что-то пробовавшего Аполлинера, которой он увлекся чуть позже, — «каллиграммы»: стихотворения-рисунки, где строки расположены по очертаниям описываемых предметов, как это бывает на плакатах или почтовых открытках. Аполлинер подумывал собрать их в отдельную книжечку, бросавшую своим заглавием шутливый вызов его приятелям-художникам: «Я тоже живописец». Разразившаяся вскоре мировая война грубо нарушила строй ума, благоприятный для подобных занятий, которые одних покоряли блесками фантазии, другим внушали подозрения в мистификаторстве. И хотя Аполлинер на передовой поначалу находил в себе силы скрашивать окопные передряги остроумной игрой сочинителя-рисовальщика и даже ухитрился отпечатать в 1915 г. на гектографе книжечку каллиграмм «Ящик на орудийном передке», постепенно эти эксперименты пошли на убыль, оставив памятные курьезы, подчас искрометные. Правда, и в 1918 г. он поместил их в свою вторую итоговую книгу и даже назвал ее «Каллиграммы», хотя они составляют там только часть.
Шесть разделов этого собрания «стихотворений Мира и Войны», как гласил подзаголовок, — шесть кругов прожитого и пережитого Аполлинером за годы после «Алкоголей», а в своей совокупности — дневник-исповедь.
Резко выделяется среди прочих первый предвоенный круг — «Волны». Здесь средоточие едва ли не самых дерзких аполлинеровских опытов, зачастую так и не миновавших сугубо лабораторную стадию. Помимо собственно «каллиграмм», это разного рода словесные «коллажи» — как бы склейки из обрывков бесед за столиками в кафе, говора парижской толпы, рекламных объявлений, газетных заметок. Тут тоже, если вспомнить Маяковского, налицо лихая «езда в незнаемое» и в корчах силится заговорить «безъязыкая улица». Зародыши «киномонтажной» лирики на Западе, «коллажи» Аполлинера сами вдохновлены живописью Марка Шагала («Сквозь Европу») и особенно Робера Делоне («Окна») с передачей в ней одновременности событий, далеко разведенных в пространстве. Издалека предвещая последние, обращенные к потомкам пророчества книги увеличивают и скрепляют весь раздел прославленные «Холмы» — прощание Аполлинера со своей молодостью и вместе с тем исповедание его первопроходческой веры в пришествие дней «пылающего Разума».
Каждый из остальных пяти разделов «Каллиграмм» — очередная полоса в жизни Аполлинера с первого дня войны и вплоть до ранения в висок. После медленной поправки он еще успел снова включиться в парижскую жизнь, очутившись теперь в положении наставника очередного пополнения «авангарда» — Реверди, будущих сюрреалистов Бретона, Супо и Арагона (последние заимствовали у него позже и самый этот термин, употребленный им впервые применительно к своей пьесе «Сосцы Тиресия», 1917).
О присутствии духа и жизнестойкости Аполлинера, оставшегося самим собой и в солдатской шинели, по-своему свидетельствовало обилие его тогдашней любовной лирики. В самих «Каллиграммах» и книжечке «Vitam impendere amori» («Жизнь посвятить любви», 1917) влюбленный солдат Аполлинер представлен лишь частично: большинство его посланий из прифронтовой полосы к женщинам, поражающих быстротой и легкостью пера стихотворца-импровизатора, который строчил их подчас каждодневно неделями напролет, увидело свет посмертно («Послания к Лу», 1947, 1955; «Послания к Мадлен», 1952). Всякий раз эти письма несут на себе печать как весьма неодинакового склада их вдохновительниц, так и различного строя чувств самого поклонника: от опаляюще откровенной мучительной страсти до сдержанной покойной нежности.
Приблизительно до середины «Каллиграмм» чуть ли не в каждой странице сквозило бодрое самочувствие, зачарованность броско-необычными зрелищами ратной страды. Среди опасностей и лишений передовой Аполлинер не захотел распроститься со своей всегдашней любознательной жаждой жизненных открытий — в одном из тогдашних писем он определял ее как «постоянное и осознанное наслаждение жить, постигать, видеть, знать и выражать». Постепенно, однако, эти радужные первые впечатления теснила жестокая окопная правда. Чем ближе к концу, тем чаще в книге следы вмешательства цензурных ножниц, хотя патриотическая воодушевленность Аполлинера по-прежнему неколебима. Он не грешил, впрочем, и на первых порах лубочной ура-трескотней, как не сделался затем соратником Барбюса по революционному разоблачению газово-траншейной мясорубки. Притягательность лирики воюющего Аполлинера в достойном, избежавшем витийства официозных тыловых певцов «отечества в опасности», неходульно человечном освещении солдатских трудов и дней изнутри — искреннем и скромном:


























