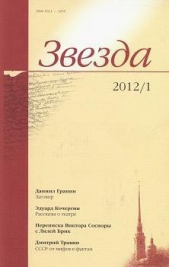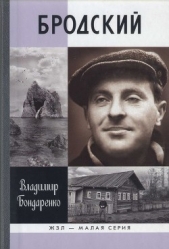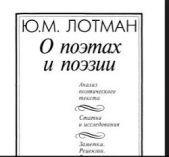«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского читать книгу онлайн
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В последовательности текстов сборника «Урания» стихотворения РТ — «Римские элегии», а также «Пьяцца Маттеи» (1981) и «Бюст Тиберия» (1985) занимают срединное место — по-видимому, это не случайно. Город «Римских элегий» — одновременно и реальный (истинный) Рим, и «место человека во вселенной» (О. Мандельштам), в том числе и родной город поэта («Крикни сейчас „замри“ — я бы тотчас замер, / как этот город сделал от счастья в детстве» [III; 43]). Знаки жестокости, несовершенства, безжизненности переведены в этом городе в «противоположное качество»: кровь становится красным мрамором, в складках (атрибут державной тоги — ср. «Дидона и Эней») «больше любви, чем в лицах». Человек, поэт находит в этом Городе свое место — в Истории, в причастности к ней, и одновременно вне ее — и ее воссоздает:
Цитата из «Писем римскому другу» («Вот и прожили мы больше половины. / Как сказал мне старый раб перед таверной: / „Мы, оглядываясь, видим лишь руины“. / Взгляд, конечно, очень варварский, но верный» [II; 285]) в «Римских элегиях» носит не характер трезво-стоической констатации бренности жизни, а соперничества (и одновременно сотрудничества) со Временем. Пространство в «Римских элегиях» перевернуто, инвертировано по отношению к обычной у поэта «геометрии империи»:
Рим включен в перечень основных (человек, бумага, буква) категорий Бродского, но в то же время подчиняет их себе — он совпадает с точкой обзора и отсчета. Римский изгнанник (Овидий) элегии не противостоит Риму, как герой «Последнего письма Овидия в Рим» или «Писем римскому другу»: поэт и Город, хотя и противопоставлены, но одновременно нуждаются друг в друге.
Так же преодолена в «Римских элегиях» антиномия жизни (плоти, любви) и мертвенности, «знаковости» (статуи, мрамора). Рим представлен местом паломничества и последнего пристанища:
Как центр вселенной, Город «Римских элегий» соотносится с Петербургом-Ленинградом — точкой, в которой встречаются две культуры, два мира и две части света — Европа и Азия: «Скорлупа куполов, позвоночники колоколен. / Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега» (III; 47) соотнесены с описанием «северной Пальмиры» в «петербургских» стихах самого Бродского. Можно вспомнить строки стихотворения «На смерть друга», 1973 («колоннада жандармской кирзы» [II; 332]) или «Полдень в комнате» (1978), которое включено в книгу «Урания»:
Город «Римских элегий» не противопоставлен Петербургу-Ленинграду как «культурному пространству», — Рим скорее «идеальный» прообраз северной столицы.
Цитата из Пушкина («покой и нега») указывает на разрешение экзистенциальных и/или семиотических антиномий в рамках «пушкинского» кода, скульптурного мифа поэта. Окружающие «Римские элегии» в «Урании» стихотворения — «Пьяцца Маттеи», «Бюст Тиберия» — реализуют мотив вариантности и амбивалентности бытия — типологически, если не генетически, сближающий эти произведения с пушкинскими.
РТ «Урании», инвертированный по отношению к РТ стихотворений в предшествующих сборниках, воплощает основную особенность поэтики этого сборника — надысторическое, «астрономическое» видение, переключение с точки зрения изнутри на точку зрения извне. В стихотворениях «Урании» РТ представлен завершенным и закрытым.
Разрешение антиномий РТ, однако, не приводит к гармоническому состоянию, они снимаются не «в сознании», а в «тексте» [712] — дистанция и даже отчужденность поэта от языка (при интимном родстве с ним) сохраняются. С учетом того, что Бродский в строении своих книг и обнажает (если не намеренно «конструирует») эти изменения в своей поэтике, и одновременно реализует при отборе текстов принцип «панхронии», решение этой проблемы представляется достаточно сложным, однако сама постановка ее не кажется мне надуманной.
Экскурс 2. «В дощатом сортире»: «срывание всех и всяческих платьев» в стихотворении Бродского «Посвящается Чехову»
Стихотворение «Посвящается Чехову» составляет своеобразную двойчатку вместе со значительно более ранним стихотворением «Посвящается Ялте» (1969). Соотнесенность текстов устанавливается не только благодаря сходным заглавиям с грамматической структурой «Verb. nonpers. + Subst. dat» (у Бродского есть и другие стихотворения с подобного типа заглавиями — «Посвящается Пиранези» и «Посвящается Джироламо Марчелло»), но и благодаря близости семантики двух произведений: раннее стихотворение представляет собой «схему», модель, по которой строится детективный сюжет (разные версии одной насильственной смерти) [713]; более позднее на этом фоне воспринимается как набор инвариантов чеховской драматургии [714]. Но почему именно драматургии, а не прозы? Дело в том, что в стихотворении Бродского содержатся указания именно на чеховскую драматургию — отсылки к «чеховскому драматургическому коду», свидетельствующие о металитературной природе этого текста. В стихотворении «Посвящается Чехову», в отличие от «ялтинского» текста, ничего не происходит: Вяльцев читает газету, а Дуня — письмо от Никки; Эрлих вожделеет к Наталье Федоровне, а студент Максимов играет (на рояле?); гости составили партию в карты. Отсутствие внешних событий и акцент на потаенных переживаниях персонажей отсылают, конечно, к Чехову как к драматургу-новатору, отказавшемуся от классической структурной доминанты — единого сюжета — и придавшему особенное значение внутреннему миру героев, психологическому «подтексту». Щедро рассыпаны в тексте Бродского отдельные атрибуты художественного мира чеховских пьес. Такова игра Максимова (вероятно, на рояле) — как параллели можно упомянуть сходный мотив в «Иванове» («дуэт на рояли и виолончели» Анны Петровны и Шабельского — д. 1, явл. 1, 2,4; ср. воспоминания Шабельского — д. 4, явл. 5), в «Лешем» («игра на рояли» Елены Андреевны — д. 3, явл. 1), в «Даде Ване» (д. 2 — несостоявшаяся игра на рояле Елены Андреевны), в «Чайке» («Через две комнаты играют меланхолический вальс» [715] — д. 4), в «Вишневом саде» (д. 2 — Епиходов, играющий на гитаре). В «Трех сестрах» несколько раз говорится об игре на скрипке Андрея Прозорова (д. 1, д 3 [XIII; 129,134, 166]), Тузенбах «садится за пианино, играет вальс» (д. 2 [XIII; 152], Тузенбах говорит, что Марья Сергеевна «играет на рояле чудесно», «великолепно, почти талантливо» (д 3 [XIII; 161]). В д. 4 содержится ремарка «В доме играют на рояле „Молитву девы“» (XIII; 175), а «где-то далеко играют на арфе и скрипке» (XIII; 177; ср. далее, с. 183). На гитаре играют двое Прозоровских гостей — Федотик и Родэ (ц. 2 [XIII; 146]).