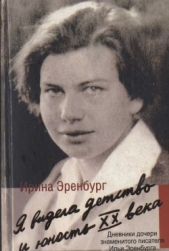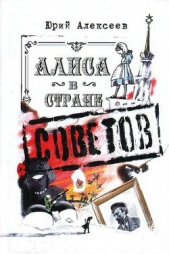Разговоры с зеркалом и Зазеркальем

Разговоры с зеркалом и Зазеркальем читать книгу онлайн
В русской культурной истории было немало женщин, которые сумели высказать и выразить себя в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках или письмах), большая часть которых была опубликована при их жизни или позже. И все же голоса этих женщин остались неуслышанными. Их тексты практически никогда не становились предметом научного интереса сами по себе, а не в качестве исторических или литературных источников для биографий знаменитых мужчин. Цель данной книги — рассмотреть, как женщины первой половины XIX века в своих дневниках, воспоминаниях и письмах пишут о себе, точнее, «пишут себя», как они обсуждают и создают приемлемые для себя модели женственности. Материалом исследования послужили среди других дневники А. Керн, А. Якушкиной, А. Олениной, мемуары Н. Дуровой, автобиография Н. Соханской, переписка Натальи Герцен с А. Герценом, Г. Гервегом и подругами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Успокаивая мужа, Н. А. Герцен развивает идеи полного самоотречения, растворения в детях — это «бессмертие», но в то же время и смерть Я, «испарение» его, конец пути, метаморфоза, превращение в «пустую кожицу», пустую телесную оболочку.
Тон писем к мужу совсем иной, чем писем к Гервегу: очень спокойный, умиротворяющий, без всяких восклицаний и риторических вопросов; в них ощущается не лирическая взволнованность, а эпическое спокойствие, повествовательность и некий остраненный, дистанцированный взгляд на собственное Я. Этот тон и частые повторы слов «тихо, мирно, мерно» (557; 564; 567) вызывают недовольство Герцена, на что Наталья Александровна отвечает: «И что же, наконец, охать, кричать… я действительно успокоилась, отдавшись снова, погрузившись совершенно в семью, ты и дети нераздельное для меня» [554].
Но хотя она уверяет Герцена, что ее выбор сделан и вполне однозначен, сравнение писем мужу и Гервегу говорит о том, что ее самоощущения в это время далеки от цельности и определенности. Они накладываются на разочарование в Георге, который ведет себя все более истерично и эгоистично, и восхищение Александром, проявившим в создавшейся ситуации не только благородство, но такую сильную и страстную любовь, которую жена в нем не подозревала.
18 апреля 1851 года Наталья Александровна пишет Гервегу:
Георг! Я доказала тебе свою любовь, разбив жизнь Александра, я доказала ему мое чувство, оторвавшись от тебя… Это было сделано без участия моей воли — она истощилась в борьбе. Что будет со мною — не знаю. Я останусь с детьми до самой смерти…. Я хочу жить, чтобы спасти Александра. Я хочу жить, чтобы с тобой когда-нибудь встретиться. Я хочу жить, чтоб любить, любить, любить… (312).
И в письмах к Георгу, и в письмах к Александру повторяются уверения в собственной искренности и невозможности для себя выбрать другую, возможно, более нормальную и разумную линию поведения.
В этом смысле и возвращение к идеям женского самоотречения и самопожертвования выглядит не следованием культурным образцам и общественным (религиозным) нормам — это собственное решение, очень трудное и, возможно, неокончательное. В предсмертном письме к Н. А. Тучковой говорится не о старости и «доживании» жизни в других, а о возможности новой полноты жизни:
После страданий, которым, может, ты знаешь меру — иные минуты полны блаженства; все верования юности, детства не только свершились, но прошли сквозь страшные невообразимые испытания, не утратив ни свежести, ни аромата — расцвели с новым блеском и силой [555].
Как интерпретировать тот опыт поиска собственной идентичности, который пережила Наталья Александровна Герцен?
Ее знаменитый муж в «Былом и думах» представил историю ее последних лет жизни как историю соблазнения чистой и благородной женщины эгоистом в демонической маске и подлецом. Эта построенная в общем по романтической модели версия, позволяла полностью вывести из-под «суда света», обелить Наталью Александровну, предоставив ей роль невинной жертвы Как можно видеть из приведенных выше материалов, эта утешительная для Герцена версия не была объективной хотя бы потому, что Наталья Александровна отнюдь не была и не хотела быть в этой истории в положении «Гретхен».
Елена Дрыжакова, подробно проанализировав семейную драму Герценов в главе «Крушение любви», приходит к выводу, что все участники событий совершали своего рода «социальный» эксперимент, историю которого надо читать не через романтический код, а в дискурсе социально-утопических, эмансипаторских идей (Фурье, Сен-Симон, Жорж Санд). Попытка реализовать в жизни модели «нового человека», новой женщины и новой любви потерпела фиаско, хотя, по мнению исследовательницы, «Герцен был уверен, что он вышел победителем из этого конфликта, что лишь смерть Натальи Александровны „перешла дорогу“, то есть помешала ему продемонстрировать миру возможность разрешить драму в соответствии со „свободным выбором“ его жены. <Но> где-то в глубине души он, конечно, понимал, что именно смерть разрешила неразрешимые для жизни проблемы и никакие „новые“ принципы не могут разрешить человеческих страстей» [556].
Точка зрения Дрыжаковой противоположна высказанной несколькими десятилетиями ранее идее П. Милюкова, что «тут на смертном одре разрешилась проблема нового брака, вырабатывался союз, основанный не на „надменном покровительстве“ мужчины и не на „уклончивом молчании“ женщины. Но сколько страданий пришлось перенести и вызвать прежде, чем эта проблема была, наконец, вполне сознательно поставлена лучшими представителями того поколения» [557].
Наталья Александровна Герцен, как показывает анализ ее писем к разным адресатам и других ее автодокументов, прошла свой, сложный, путь поиска собственной идентичности.
Ее понимание себя и ее способы саморепрезентации в огромной степени зависели от тех моделей женственности, которые существовали в общественном сознании, пропагандировались и навязывались мужчинами-идеологами. Как писал тот же П. Милюков, «положение женской молодежи того времени было очень нелегко. Лишенная высшей и даже средней школы, дома учившаяся только языкам, читавшая в лучшем случае только романы, она не имела достаточной подготовки, чтобы жить жизнью века и идти в мысли и чувстве об руку с мужской молодежью. К участию в серьезных чтениях и спорах молодых людей не допускали девушек простые требования приличия, не говоря уже о подготовке. Между тем результаты юношеских споров были далеко не безразличны для барышень. Женщина играла в этих спорах очень важную роль; теоретически ей представлялась роль высшего существа, предназначением которого было пересоздать мужчину. Среди табачного дыма и за стаканом вина решались вопросы, как женщина должна любить: то от нее ждали любви по Шиллеру то она должна была чувствовать по Гегелю, то ей рекомендовалось проникнуться настроением Жорж Занд. И все это предъявлялось одному и тому же женскому поколению, на очень коротком промежутке времени в одинаково безусловной, догматической форме. Сколько же нужно было такта и искренности, мягкости и врожденного благородства, чтобы, не прибегая к лицемерию, удовлетворить ожиданиям молодых людей — и остаться самой собою?» [558]
Последнее выражение Милюкова, на мой взгляд, нуждается в уточнении: женщине нужно было не «остаться», а стать самой собой — что и пыталась сделать Наталья Александровна. В последние годы жизни она стремится перестроить навязанные ей модели женственности в соответствии со своим чувственным и духовным опытом. В ее случае эта попытка привела к гибели. Вопрос в том, соразмерная ли это цена за право быть собой?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первая половина XIX века — время, когда в русской критике возникает и широко употребляется понятие «женская литература» и даже мелькает (у В. Боткина) словосочетание «женская эстетика» [559].
Одновременно в 1830-е и отчасти уже в 1820-е годы в России впервые «мемуарная проблематика, судьбы мемуарного жанра <…> приковывают к себе внимание общества и начинают широко обсуждаться» [560]. Ведение дневников, создание записок, семейных хроник, искусство переписки (как на французском, так и на русском языке) становятся к этому времени органической частью культурного быта, модой и привычкой, в том числе и в женском кругу.
В отличие от женской прозы, женские автодокументальные тексты того времени не публикуются и не рассчитаны на обнародование (редчайшее исключение — «Кавалерист-девица» Н. Дуровой), да и будучи с течением времени опубликованы, они остаются на периферии исследовательского интереса.