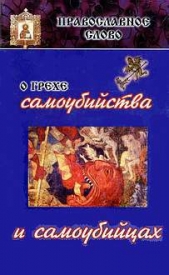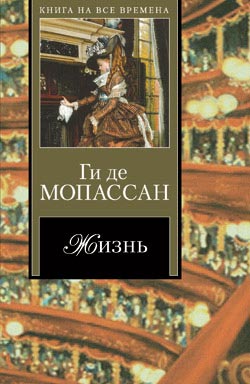Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали

Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали читать книгу онлайн
Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы. И в то же время — судьба, общая для многих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что значит — филологи! Не упустили случая поиграть звуком «ф» и этой необязательной вольностью словно бы доказали, как поэтически вдохновенно рождался их текст, сам так и рвавшийся из души!
«…А русский народ… Он тоже оклеветан Терцем. …Терц клевещет не только на советского человека, — он клевещет на человеческую природу, на все человечество».
Тогда среди подписей этих обиженных за человека и человечество резанули, задели — по-разному — две: «С. М. Бонди, профессор… В. Н. Турбин, старший преподаватель».
Знаменитый пушкинист, на чьи лекции сбегались со всех факультетов. И — специалист по Лермонтову, также любимец своих студентов, вдобавок — заметный, яркий критик.
Что касается первого, то знавшие, как нетвердо его положение на факультете, склонялись его оправдать. По крайности — пожалеть.
Литературовед Мариэтта Чудакова, слушавшая его лекции, рассказывает, как в июне 1967 года, вскоре после злосчастного письма, группа коллег возвращалась в Москву из Тарту, с Блоковской конференции, и в общей беседе прозвучало имя любимого, а ныне разочаровавшего профессора.
— Бонди — подонок! — заявил известный нам Аркадий Белинков, поддержанный всеми, кроме одного (кроме одной — легко догадаться, что это была сама Чудакова):
«— Сергей Михайлович Бонди — человек, воспитавший несколько поколений филологов. Если это слово применять к нему, то как мы будем называть подонков? Из всех нас одному Аркадию биография дает право на резкость оценок. Нам же всем надо бы соотносить свою биографию с биографией профессора Бонди».
Да и второй, Турбин… Ну, осудим его (есть за что), так ведь надо ж сообразить, как трудно бывает отказаться от участия в общей акции, на какую надо решиться жертву. Отказался Алесь Адамович, тогда работавший на филфаке, — и был с оного изгнан.
Не судите, да не судимы… Но я говорю о фоне, на котором еще продолжает течь по могучей инерции жизнь советского интеллигента. И рано еще перед словом «советский» ставить: «бывший».
Так вот, к вопросу о фоне и об инерции. Еще одно письмо — в ту же «Литературную газету», но ровно четверть века спустя:
«Уважаемый коллега редактор!
Разрешите прибегнуть к посредничеству Вашей газеты для того, чтобы попытаться исправить существенную нравственную ошибку, некогда мной совершенную: речь идет о моей подписи под статьей профессоров и преподавателей МГУ, в свое время приуроченной к завершению судебного процесса над писателем Андреем Синявским. Свою подпись под этим шедевром административной публицистики я был бы рад снять, хотя ныне это можно сделать только условно.
Я отнюдь не считаю себя сторонником работ Синявского. Нет, многое в них представляется мне профессионально слабым, поверхностным, да и просто неинтересным. Как писатель Синявский мне чужд.
Но другое дело — бросить вслед уводимому под конвоем в концлагерь заключенному, зеку некое лицемерно укоризненное послание. О том, что я присоединился к нему…»
Не ехидства ради (но, что скрывать, и не ради заботы о стиле) отмечу: присоединился отнюдь не к зеку — к посланию. И тут само по себе характерно, как запетляла стилистика у того, кто обычно был в этом смысле старателен. Может, сказалось внутреннее смятение?
«…Я сожалел уже на следующий день, сознавая, что недопустимо переносить неприязнь к чьим бы то ни было литературным произведениям на человека, за них казнимого. Уклониться от участия в фарсе, организованном впавшими в очередную идеологическую истерику партийными верхами, было не так-то уж трудно. Я, однако, до сих пор не уверен, что это явилось бы достойным выходом из сложившейся тогда ситуации. Правильным было бы только одно: остановить всех, собравшихся для сочинения обвинительной статьи. Но этого я сделать не мог бы.
Я прошу Вас передать Андрею Донатовичу Синявскому мою просьбу простить меня.
В. Турбин».
Не сдать ли дело в архив? Мертв Синявский. И Турбин умер. Но, как сказано у Булгакова, «мы-то ведь живы!». И нам, еще покуда живым, стоит, я думаю, осознать, сколь ужасно покаяние, выраженное таким образом.
Хуже самого по себе былого проступка. Это если говорить не о самом авторе, согрешившем и, как уж сумел, покаявшемся, а именно о нас — в целом, вкупе, имеющих дерзость именоваться интеллигентами. Или хотя бы не возражающих, когда нас так именуют.
Когда-то Михаил Михайлович Зощенко записал в дневнике:
«Каганович у Горького — речь — не делает поправку на аудиторию. Нет интеллигентских рефлексов. Победа за ними!»
Угадал.
Дело обстоит еще достаточно просто, когда сталкиваешься с перерождением, которое совершается в охотку и уж поистине без этих самых рефлексов. Замечательный образец их отсутствия — например, сравнительно недавно изданные письма Алексея Николаевича Толстого. В них обладатель таланта, чье русское, плотское обаяние мало с кем еще можно сравнить, может, оставив одну жену, так сообщить о своем решении новой избраннице:
«Мики, теперь вся Москва знает, что ты моя будущая жена — я сказал об этом вчера в ЦК партии. (Так было нужно.)».
А когда оставленная супруга, замечательная поэтесса Наталья Крандиевская, присылает ему на отзыв свои лирические воспоминания, он — в интимном письме! — вновь поступает, как «нужно» (и нужно тому же ЦК), упрекая былую жену в «несовременности».
«События, одно трагичнее и страшнее другого, совершаются каждый день. Каждый день мы свидетели того, как десятки тысяч людей гибнут от ужасной несправедливости, в ужасающих мучениях…»
Что это? Верить ли своим глазам? Неужели сталинские злодейства, к 1939 году (когда писано это послание) залившие кровью страну, наконец-то проняли сердце «трудового графа», как называл Толстого Булгаков? Так проняли, что его слух замкнулся для нежной лирики?
Разумеется, нет:
«…С другой стороны, то, что происходит у нас, грандиозно и величественно. Писателю творить вне этого нельзя, как нельзя раскладывать пасьянс в пылающем доме».
И — шедевр демагогии:
«Представь на минуту, что твой дневник напечатан и попал в руки бойца на китайском фронте или… просто в руки нашего колхозника. Прежде всего они не поверят, что он был написан в 1939 году».
На что интеллигентка-умница Крандиевская отзовется с некоторой растерянностью:
«Оставляя в стороне мой дневник, думаю, что проверять таким образом ценность литературной вещи — нельзя вообще…
Бойцу же на китайском фронте, пожалуй, ближе всего к цели придутся патриотические песни Лебедева-Кумача».
Будем справедливы. Кто поручится, что толстовское нравоучение не писано исключительно для цензуры, читающей частные письма, — а, конечно, следили даже за ним, любимцем властей.
Есть история, рисующая Алексея Николаевича вполне обаятельно. Как пришел к нему некто и стал жаловаться на жизнь: все вокруг тяжело и печально, люди на улицах ходят с потерянным видом — и т. д. и т. п. Толстой слушал, слушал, а потом возразил: ничего подобного, ему лично кажется, что все хорошо и прохожие сплошь бодры и улыбчивы.
Помолчал и добавил:
— Так и передайте.
Но если допустим, что и упреки бывшей жене — в расчете на перлюстрацию, то ничего хуже этого о «трудовом графе» сказать не сумеем. Пошло и низко — свою любовную страсть удостоверять казенной печатью ЦК, но заявить (для цензуры, для «органов», проверяющих письма!) о своей политической благонадежности за счет несознательной экс-жены — предел низости.
Победа за ними?
О да, но и Зощенко не мог предвидеть масштабов этой победы.
Почему так ужасно покаяние Владимира Турбина?
Конечно, смущает и сама по себе задержка, с которой возникла потребность каяться, тем более эти четверть века — не просто свидетельство нравственной заторможенности. 1991-й — это год, когда стало можно, не страшно вспомнить о чувствах, которые прежде душили и прятали. Понятно, никакая из советских газет не напечатала бы ранее ничего подобного, но ведь не пришло же в повинную голову послать письмецо в Париж, хотя бы и с верной, безопасной оказией. Дескать, простите, Андрей Донатович, бес попутал…