Прошлое толкует нас
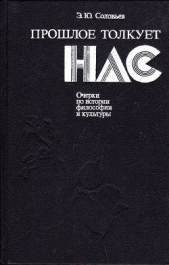
Прошлое толкует нас читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Историцизм — это лишь в буржуазную эпоху возникший, философски оформленныйкульт истории, популярное содержание которого, вкратце говоря, сводится к следующему.
История мыслится как «особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей». [3] Цели эти почитаются либозаведомо благими, соответствующими глубинным нравственным запросам нашего существа, либосверхморальными, лежащими как бы «по ту сторону добра и зла» (в этом случае всякая нравственная оценка исторического процесса отметается как недопустимое «морализаторство» по его адресу). [4] История сама знает, куда ей идти, располагает полными гарантиями успешности своего предприятия и «в конечном счете» окупает все жертвы и издержки. Что бы ни делали люди, история не может ни потерпеть крушение, ни изменить свое направление. «Рано или поздно» она исправляет все ошибки, зализывает все раны, нанесенные ей волюнтаризмом и авантюризмом. Люди слишком много берут на себя, полагая, что могут нести ответственность за ход истории, и было бы куда как разумно, если бы они задумывались только над тем, как бы им не продешевить, не отстать от прогресса, не сделать ставку «не на ту лошадь» и не оказаться в дураках по самому крупному (всемирно-историческому) счету.
Можно сказать, что именно с возникновением культа истории идеология буржуазного утилитарного благоразумия «достраивается доверху». Представление о посюстороннем, имманентном самому обществу Провидении, которое выражает себя в твердых, безальтернативных, обладающих надежным обеспечением требованияхцелесообразности, /352/ делает исторический процесс соразмерным общему умственному складу буржуазной прагматики. Историческое действие становится чем-то «одномотивным» с повседневной борьбой за экономическое выживание, подчиняется тому же самому стремлению не отстать, не оказаться в числе неудачников, не сделаться жертвой плохо понятой конъюнктуры. В историцистски понятой истории, как и на бирже, победителей не судят, а банкротов не жалеют. Кто возобладал, тот и велик, хотя бы это был просто великий подлец.
Характерными чертами историцизма как философски оформленной доктрины являются:
1) финалистский детерминизм;
2) идея провиденциальной (разумной) необходимости;
3) стремление оправдать зло, несправедливость и насилие в качестве действенных орудий прогресса;
4) истолкование настоящего как полной истины прошлого и презрительно-ироническое отношение к проблеме упущенных и нереализованных возможностей.
Исходные историцистские установки ярче всего представлены в гегелевской «Философии истории» и в контовской «Системе позитивной политики». О первой из них А. В. Гулыга (и это, возможно, первая в нашей литературе маркировка феномена историцизма) справедливо замечал следующее: для Гегеля человеческая история с самого начала выступает «как замкнутая финалистически детерминированная разумная система». [5]
Важно подчеркнуть в этой связи, что, выступая против гегельянского культа истории, Маркс и Энгельс говорили не просто о персонификации последней, но об уподоблении ее особой личности, способ существования которой отличается от способа бытия обычного человеческого индивида. Этой личности чужды негарантированность человеческого существования, бренность, неуверенность, зависимость от эмпирических фактов и обстоятельств. История в итоге не просто персонифицируется и антропоморфизируется, а скорее воплощает то, что русская религиозная философия будет называть «человекобогом». Можно сказать поэтому, что в историцистской модели общественного развития (прежде всего в гегельянском спекулятивном идеализме) впервые на деле выполняется та операция, в которой Фейербах неправомерно усматривал универсальный «механизм религиозной иллюзии», — операция обожествления /351/ человеком своей собственной родовой сущности, полагания ее в качестве «очищенной, освобожденной от индивидуальных границ, то есть от действительного телесного человека». [6]
Культ истории был самым мощным из многочисленных культов, выработанных раннебуржуазной эпохой. С другой стороны, он представлял собой последнюю форму и стадию в развитии концепции бога, имманентного миру, концепции по самой своей сущности секуляристской.
Виднейший представитель историцизма — Гегель был самым ярким представителем обеих этих тенденций.
Рассматривая его философию, мы видим, во-первых, как важнейшие понятия зарождающейся исторической науки («развитие», «закономерность», «преемственность» и т. д.) приобретают провиденциалистский и идолатрический смысл, и, во-вторых, как традиционные проблемы христианской теологии, и прежде всего проблема оправдания зла, трансформируются в проблемы исторические.
Никто до Гегеля с такой решительностью не выступал против идеи трансцендентности бога — в защиту того, что теогонический процесс тождествен процессу вселенского развития, каким мы его знаем, отправляясь от данных опыта. [7] Решающей фазой этого развития Гегель считалисторию в собственном смысле слова, то есть эволюцию человеческого общества. Он трактовал ее как прямое воплощение последнего и высшего из религиозных мифов — библейско-христианского. Священная история, рассказанная Писанием, есть для Гегеля лишь иносказательное провозвестие того, что буквально, наглядно и в полной своей конкретности развертывается в качестве истории профанической. И именно в ней должна раскрыться и стать полностью понятной для исследующего разума основная проблема (тайна) истории священной: тайна допущения богом зла и греха, их смысла и их преодоления. Объективно исследованная история человечества, прямо заявляет /354/ Гегель, есть единственно доказательная теодицея. Верткость мысли, которую Гегель обнаружил при доказательстве этого тезиса, превзошла все софистические хитрости, известные предшествующей философии. На почве исторически трактуемой теодицеи талант диалектика стал гением мистификатора.
К существу гегелевской философии (и именно как классической формы историцизма) принадлежит то, что она, во-первых, представляет собой неразрешенное противоречие, двойственность, антагонистическое сосуществование внутренне несовместимых принципов и, во-вторых, принимает и выдает эту двойственность за истинное органическое единство.
Так часто ставившийся в заслугу Гегелю монизм есть видимость его философии. Гегелевская система монистична лишь по замыслу. Уже в начале века Гегель принимает на себя своего рода обет: объяснить мир, исходя из одного-единственного первоначала — духа, причем (в этом была суть спора с Шеллингом) из духа, не подверженного никакой трагической раздвоенности.
Духу свойственна абсолютная органичность, исключающая всякую возможность недостатка, нехватки, нужды, внешней необходимости. Все враждебное духу — то есть преднайденное, объектное, материальное, случайное и бессмысленное — может возникнуть поэтому только в силу его свободного допущения. Гегелевский абсолют знает лишь вольноотпущенную объективность. [8] Он сам свободно приводит себя в несвободное состояние и заранее провидит, что непременно вернется победителем из похода в собственное «инобытие».
Мировоззрение молодого Гегеля может быть охарактеризовано поэтому как предельная, концептуально завершенная форма оптимистического благодушия. Оно предполагает, что с истинной, философской точки зрения все несчастное, бессмысленное и трагическое не только заведомо обречено гибели, но, по строгому счету, даже вообще не существует, а представляет собой лишь развертывающуюся во времени видимость.
Гегелевский оптимизм обнаруживает в этом отношении несомненное сходство с умонастроением ранних романтиков, трактовавших все ставшее, предметное и конечное как своего рода наваждение, которое рассеется в лучах будущего /355/. Да и сам абсолютный дух, каким он появляется на свет в работах йенского периода, может рассматриваться как особая, своеобразная версия романтической субъективности. Это бог — ироник, играющий и резвящийся демиург, который в состоянии «свободного радования» полагает то, что станет для человека миром препятствий, трудностей, несчастий и смерти.


























