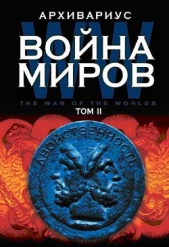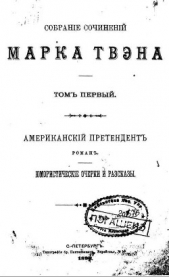Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1960
О СТИХОДЕЛАНЬИ
В Полном собрании сочинений Толстого, (серия первая, том 72-й), напечатано краткое письмо, адресованное в 1899 году некоему С. П., в ответ на присланные им стихи. Толстой пишет:
«Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием. Если человеку есть что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать. И потому не присылайте мне стихов и, пожалуйста, не сетуйте на меня, если я прямо высказываю свое мнение».
Вероятно, стихи были плохие; незадачливые сочинители, в том числе и рифмачи, любят посылать свои творения знаменитым собратьям. Собратья большей частью бросают рукопись в корзину и об ответе не помышляют. Толстой ответил — по чувству писательского долга и потому, что вообще на все письма отвечал, но ответ его не простая отговорка, а весьма ясная формулировка вполне определенного взгляда на поэзию. Толстовского взгляда? Да, толстовского; но только если это прилагательное производить от существительного «толстовство», а не от имени собственного Толстой. Сам Лев Николаевич, в эти поздние годы жизни, если и мог сказать, положа руку на сердце: «Я считаю стихотворство пустым занятием», то сказать с той же искренностью «я не люблю стихов», – он и в эти годы (хоть и говаривал, хоть и в письмах это повторял не раз) все-таки не мог. Пушкинское «Воспоминание» он полюбил на всю жизнь, включил в «Круг чтения» и проливал над ним слезы еще и в старости. О «Последней любви» Тютчева он когда-то высказался пренебрежительно (тоже, мол, песок сыпется, а все о любви пишет), но именно в эти поздние годы томик Тютчева постоянно лежал у его изголовья и он сказал одному из частых своих собеседников (Лазурскому): «Жить без него не могу». Осуждения поэзии (как и музыки, как и вообще искусства) требовало его учение, с которым не во всем — и меньше всего в этом — согласна была его сокровенная суть. Но интереснее самого отрицания его мотивировка; и тут Толстой высказал — действительно, с полной прямотой — то самое, что думают многие, но не решаются высказать открыто.
«Если человеку есть, что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать». Эти толстовские слова (в другом варианте: «ясней и проще»; «явственнее» могло бы еще оставить лазейку художнику) так и вертятся у многих на языке, но до произнесения их дело обычно не доходит. Вместо этого произносят фразы двух родов. Одни говорят: «Я этих стихов не понимаю; писали бы хоть, ну, там, как Пушкин, Лермонтов, а то словечка в простоте не скажут, все выверты какие-то». Другие предпочитают высказываться иначе. «Стихи, — говорят они, — ничуть не хуже прозы; только надо, чтобы они были бодрые, жизнерадостные, призывали к действию, а всякая там грусть-тоска, любовь да слезы, да черные думы, — на что ж это нам нужно при строительстве социализма?» И те, и другие, однако, душою несколько кривят. Первым и пушкинские стихи не в коня корм, а вторым и бодрые нисколько не нужнее грустных: ведь стихами о строительстве социализма (или чего бы то ни было: демократии, бюрократии, плутократии, охлократии) лучше, чем в прозе, не напишешь. Будь они достаточно мужественны и правдивы, они сказали бы, как Толстой: пожалуйста, не пишите стихов; мы считаем стихотворство пустым занятием.
И в самом деле, если есть у человека что сказать, и если он может просто и ясно высказать это в прозе, то зачем ему писать стихи? Ведь не для того же, чтобы говорить, когда сказать ему нечего? Толстой рассуждает совершенно правильно; он забыл только одно: то, что знал лучше всякого другого. Есть у человека неискоренимая потребность выразить еще и то, чего никакими всего только простыми и ясными, служащими для практических надобностей словами выразить невозможно. В жизни он это – или частицу этого – выражает взглядом, улыбкой, рукопожатием, иногда молча, а иногда в сопровождении тех же самых привычных, каждодневных слов, которые получают тогда смысл, далеко выходящий за пределы обычного их значения. В литературе он тоже ищет этому выражения не в учебнике, не в газетной статье, не в «печатном слове», как таковом, а в том, что умеют делать с этим словом писатели и поэты. Разве помнил бы Толстой то, что Пушкин писал в тот самый год, когда он, Толстой, родился; разве плакал бы в старости над его словами, если бы Пушкин всего только ясно и просто сказал, что по ночам ему плохо спится и что мысли у него бывают тогда пренеприятные: вспоминается старое и нехорошее, что лучше было бы забыть, но чего он все-таки забывать не хочет. С такой простотой и ясностью Пушкин, однако, не писал. Он писал иначе;
Никакой прозой не скажешь того, что Пушкин сказал стихами. Этим-то и ограждены права поэзии. Можно обойтись без нее — хоть Толстой и не мог без нее обойтись, но заменить ее нечем: ее дела без нее не сделаешь. Тем же, кто без нее обходится, тем Пушкина лучше в укор другим поэтам не хвалить, да и о бодрой и небодрой поэзии не распространяться. Здорового оптимизма в этом стихотворении что-то не видать, а язык его вместе с тем не совсем тот, каким мы пользуемся в обычной жизни. Какая уж тут ясность и простота, когда Пушкин называет стогнами то, что сам в разговоре называл площадями. Да и площади эти у него — немые (в отличие от других, более разговорчивых, что ли?); змея грызет ему сердце; часы влачатся; мечты «кипят»; угрызения «горят»; воспоминание «развертывает свиток», на котором он не желает смывать каких-то не существующих слов. Нет уж, увольте: если человеку есть что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а стихотворство — занятие пустое.
– «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». — «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?»
Так размечтавшемуся Жуковскому, во всеоружии здравого смысла, отвечает через полвека Смердяков. Нельзя отказать Смердякову в одном преимуществе: упоминая о рифме и стихе, он тем самым связывает поэзию с воплощением ее в слове, тогда как в прекрасном по замыслу определении Жуковского поэзия испаряется в мечту и грозит ограничиться поэтической мечтательностью. Романтики, особенно того направления, к которому примыкал Жуковский, слишком легко подменяли поэзию порывом к ней и предпочитали ей самой ее «туманный идеал». Такой взгляд приводит к ее смешению с ложной поэтичностью, но этим еще отнюдь не снимается противоположность между тем, как судит о поэзии поэт и как судит о ней лакей из «Братьев Карамазовых». Там, где Жуковский видит Бога, Смердяков усматривает вздор.