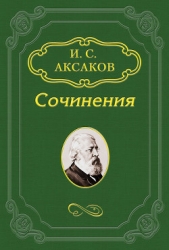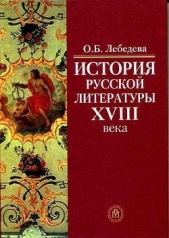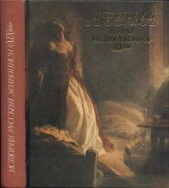Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)

Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) читать книгу онлайн
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы. Фактическая новизна и широкий круг литературных ассоциаций, фундаментальность и живость изложения делают ее ценнейшим изданием, в котором любой читатель найдет интересное и полезное для себя.
Для учащихся книга станет необходимым дополнением к курсу русской истории и литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По тому же типу игры строились и отношения Суворова с солдатами. Эта сторона деятельности фельдмаршала освещена особенно подробно и не требует больших дополнений. Но для того чтобы проникнуть в культурно-психологическую сторону вопроса, полезно на минуту отвернуться от документов и посмотреть, как преломилась личность Суворова в сознании Льва Толстого. В «Войне и мире» Толстого привлекает внимание персонаж, в котором писатель создал образ, соединяющий черты офицера и начальника с народностью и как бы отцовским отношением к солдатам. Это — капитан Тушин. Тушин не похож на «героя фрунта»: он слаб, маленького роста; в первоначальной редакции Толстой даже подчеркнул эти «неармейские» его черты. Выстрелы пушек заставляют «каждый раз вздрагивать его слабые нервы». Он «ковылял от одного орудия к другому», батарейцы «на две головы выше своего офицера и вдвое шире его» [387]. Эти резкие черты слабости потом были смягчены, но самый образ народной непоказной храбрости, очищенной от фрунта, остался. Толстой особенно подчеркнул элемент игры в поведении своего героя и соединение героизма с детством. «Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это,как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.
— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.
В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. <…> у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.
— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад. <…>
„Ну-ка, наша Матвевна“, — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был дядя;Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.
„Ишь задышала опять, задышала“, — говорил он про себя.
Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра» [388].
Герой Толстого, конечно, не портрет Суворова. Толстой сделал нечто большее. Он как бы подверг реальное историческое лицо художественному изучению и извлек из него то, что в образе Суворова, по мнению Толстого, связано было с народностью. Показательно, что Толстой ввел своего героя в обстановку заграничных походов, а не Отечественной войны 1812 года. Суворов был человеком другой эпохи; для Отечественной войны Толстому нужен был Кутузов. Характерно, что те настроения, которые Толстой дает своим героям на Бородинском поле, в образе Тушина отсутствуют.
Суворов был человеком XVIII века и включал в себя противоречия своей эпохи.
Одним из этих противоречий было сочетание искреннего православия, не задетого деизмом, и столь же искреннего культа античного героизма, доблести героев Древнего Рима и Греции. Сочинения Саллюстия, Тацита, Плутарха и других авторов этого круга Суворов читал постоянно и любил цитировать на память. Более того, он находил в них образцы для подражания и в его стиле разговорность и фольклорность смешивались с латинообразным синтаксисом и «греческой помпой» (выражение Белинского). Вместе с тем понятие патриотизма для Суворова противостояло идее внутренних гражданских конфликтов. Это было чувство объединяющее, а не разъединяющее. Суворов мог раздражаться на Потемкина и даже Екатерину, открыто фрондировать перед Павлом, но никогда не переходил через черту, за которой начиналось отрицание системы. По воспоминаниям Фукса, он сказал однажды: «Если бы Силла (Сулла. — Ю. Л.) и Марий встретились нечаянно на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы; Патриций обнял бы Плебеянина, и Рим не увидел бы кровавой реки» [389]. Здесь за Алеутскими островами легко просвечивалась Россия. В ней Суворов и хотел бы увидеть примирение «Патриция» и «Плебеянина». Это, несмотря на глубочайшее разочарование Суворова в Павле, не дало ему возможности примкнуть к назревавшему в конце 90-х годов военному заговору, куда его приглашал, согласно относительно недавно обнаруженным данным, М. В. Каховский. Суворов заткнул ему рот рукой со словами: «Молчи, молчи, кровь граждан». (Характерно это совершенно «римское» выражение «граждане» — слово, которое Павел ненавидел и требовал заменять словом «мещанин».) Каховский после того, как заговор стал известен императору, был 13 февраля 1800 года неожиданно отставлен и скоропостижно умер при неясных обстоятельствах [390]. Видимо, с этим же связана и неожиданная опала, которой подвергся возвращающийся из Итальянского похода победоносный фельдмаршал: торжественный прием был отменен и Суворов одиноко скончался в доме своего родственника графа Хвостова.
Краткий последний период жизни Суворова был связан с глубокими трагическими размышлениями. Он отрицательно отнесся, что было совершенно естественно, к Французской революции и долго не оставлял планов похода из Италии во Францию. Но это не означает еще, что его политические симпатии последних лет для нас полностью ясны. История втягивала Суворова в новую войну — войну, в которой политические вопросы становились в один ряд со стратегическими. Турецкие войны не требовали от стратега политических размышлений, но уже в Италии события приобрели новый характер. По данным близких к Суворову людей можно свидетельствовать, что изгнание французов из Италии сначала возбуждало у него мысли об объединении Италии под эгидой Австрии и России. Эта мысль напоминала политические мечты Данте. Однако события показали невозможность союза с Австрией, а политический эгоизм последней, кровавая резня, учиненная монархистами в Неаполе, способствовали не только военному, но и политическому разочарованию в целях Итальянского похода.
Даже после отступления через Альпы и все более усложняющихся отношений с Австрией Суворов не оставлял планов похода и во Францию. Тем более знаменательно, что, планируя вторжение через границу с Швейцарией, он специально оговаривал, чтобы в действии не участвовали эмигранты-роялисты, потому что они зальют всю Францию кровью. Суворову приходилось втягиваться в политические вопросы, а это трагически противоречило фундаменту, на котором строился его патриотизм. Е. Фукс зафиксировал один крайне интересный эпизод. В Праге, где армия отдыхала после Швейцарского похода, Фукс застал главнокомандующего за оживленной беседой, которая продлилась более часа и заставила Суворова отложить все срочные дела. Это был разговор с простого вида стариком. Собеседник Суворова оказался одним из богемских братьев [391], потомков гуситов. Разговор касался Яна Гуса и Констанцского Собора (Суворов называл Констанц по-чешски — Костниц), а когда собеседник удалился, Суворов заговорил о своеобразии грядущих войн. Турецкие походы не были, по его мнению, борьбой верований: религиозных или политических. Суворов сказал: «В Турции, в праздном моем уединении, заставлял я толковать себе Алькоран и увидел, что Магомет пекся не о царствии небесном, а о земном». Грядущие войны, приближение которых Суворов предчувствовал, будут войнами убеждений: «Нам предоставлено увидеть новый, также ужасный, феномен: политический фанатизм!!!» Далее Суворов выразил уверенность, что надвигающаяся военная буря захватит Европу, а не Россию. Он специально заставил записывающего его речи Фукса прибавить, что речь идет о чужбине, а Россию ожидает тишина, и связал с этим отзыв армии на родину. Но тут же мемуарист зафиксировал странные слова, поразительно напоминающие мысли Радищева и совершенно неожиданные в устах Суворова: «Спокойствие — удушье. Так тишина на море бывает предвестницею бурного урагана. Так, тлеющий под пеплом угль угрожает сокрушить все пламенем» — и прибавил: «Запиши последнее для графа Федора Васильевича Ростопчина» [392]— то есть для передачи Павлу.