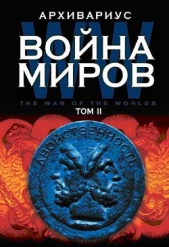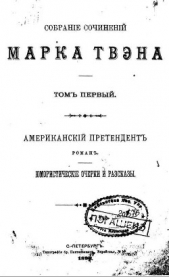Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но как именно это происходит, как складывается судьба искусства, до конца отделенного от религии, не подлежит сейчас нашему рассмотрению. Это уже тема другой статьи.
ПИСЬМА ОБ ИКОНЕ
Письмо первое. Образ и символ
Икона принадлежит Православию. На Западе она — гостья. Родилась она, правда, в неразделенной еще Церкви, и почитание ее не оспаривается католичеством; но исконная и непрерывная (хоть и не очень широкая) традиция иконы и ее почитания наблюдается в одной Италии, где сквозь века всего крепче хранилась связь как с христианской древностью, так и с Византией. Не первенствует, однако, эта традиция и здесь. Если же нынче в католических храмах всего Запада нередко встречаются и пользуются вниманием молящихся отдельные, большей частью богородичные иконы так называемого итало-греческого письма или репродукции с них, то появились они там в недавнее время, в силу потребности, которая раньше не проявлялась и происхождение которой интересно было бы выяснить. Западное религиозное искусство, даже в созданиях своих, наиболее близких к иконе, как современные ее расцвету в России итальянский алтарный образ или «Andachtsbild» заальпийских стран, иконным искусством все же не становится; у него другой художественный облик и другой религиозный смысл. Икона укоренена и полностью утверждена только в восточном, вернее — греческом христианстве. Но из этого отнюдь не следует, что и значение она имеет только в его пределах.
Общехристианское и общечеловеческое значение иконы заключается в том, что замысел, положенный в ее основу, и она сама, как осуществление этого замысла, с непревосходимой ясностью раскрывают истинную природу не только религиозного изобразительного искусства, но и всякого вообще изображения. Замысел иконы, как и все вытекающие из него особенности ее тематики и стиля, обусловлен ее церковным почитанием, а почитание это, каковы бы ни были дальнейшие богословские оправдания его, проистекает из веры в два неразрывно друг с другом связанных свойства иконного изображения: его сходство с тем, что изображено, и его особого рода тождество (тяготение к слиянию) с этим изображенным. Внимательное рассмотрение того, что, собственно, мыслится в этих понятиях сходства и тождества, как раз и позволяет приблизиться к пониманию не одних этих изображений, но и всех других, даже наиболее далеких от всякого им подобия.
Начнем со сходства. В применении к иконам о каком сходстве может идти речь? Если мы обратимся к писавшим об этом авторам, начиная с предиконоборческой эпохи, то не без удивления увидим, что речь у них почти всегда идет о сходстве самом буквальном, о точном соответствии изображения изображенному, соответствии не внутреннем, а самом обычном, внешнем. Сходством этим обосновывается свято хранимая из века в век иконографическая традиция, отступление от которой потому и недопустимо, что оно было бы отступлением от сходства. Особая гарантия этому сходству давалась легендами об иконах непосредственно портретных, например писанных евангелистом Лукой, и о нерукотворных иконах Христа, Богоматери и некоторых святых. Иконы эти прежде всего и влекли к себе верующих несомненностью запечатленного в них сходства. В Москве XVI века даже к иезуитам решились обратиться, прослышав, что у них хранится «подлинная» икона Спасителя; а Иерусалимский патриарх Досифей в 1672 году утверждал, что «похожие» иконы не нуждаются в освящении (которое и вообще введено было поздно: Седьмой Вселенский собор о нем еще ничего не знал). Но, с другой стороны, достаточно вспомнить о самих иконах или заглянуть в позднейшие руководства для иконописцев, чтобы убедиться, что сходства, как его понимаем мы или как его понимали в эллинистическо-римскую эпоху, тут не имелось в виду и достаточным считалось соблюдение немногих типических черт вроде лысины и бороды клином у апостола Павла, курчавых волос и окладистой бороды у апостола Петра. Теоретическое требование сходства, может быть, и внушалось пережитками эллинистических представлений, но сама икона этому требованию отнюдь не отвечала, и меньше всего она ему отвечала во времена высшего своего цветения. Ничего похожего на «снимок с натуры», никакого «живства» (как говорили у нас в XVII веке) нельзя обнаружить ни в совершеннейшей иконе Нерукотворного Спаса, перешедшей из Успенского собора в Третьяковскую галерею, ни в иконе Владимирской Божией Матери, никому, разумеется, не способной внушить мысль о живой модели, успешно воспроизведенной даже и гениальным, даже и святым художником. И, тем не менее, именно эти иконы всего чище, всего несомненней являют другое сходство: сходство образа с созерцаемым Церковью прообразом.
Но как возможно или что означает сходство с чем-то незримым, созерцаемым (индивидуально или соборно) только духовными очами? Современник блаженного Августина Павлин, епископ Ноланский, писал другу, просившему его портрета: «Чье же ты хочешь, чтоб я послал тебе изображение, земного человека или небесного?», разумея при этом, что второго из упомянутых изображений он никак ему послать не может. На это уместно было бы возразить, что ведь хороший портрет передает не только телесный, но и духовный облик человека, если бы тут не имелось в виду нечто другое: тот духовный облик (недаром названный небесным), который полностью заменил земной, или то новое духовное тело, которое мыслимо лишь после нетления плоти. Искусство того времени еще не достигло той одухотворенности, что необходима для выполнения изобразительных задач, отвечающих представлениям такого рода, но, главное, и тогда уже становилось ясно, что задачи эти — не портретные, а иконные. Именно в замысле иконы, внутри этого замысла, охватившего и стенопись, и мозаику, и самую архитектуру церковного здания, образовался позже тот насквозь иконный византийский стиль, вне которого не могла бы возникнуть и наша, русская икона и который в лучшее свое время ни с чем другим сходства не искал, как с умопостигаемым, духовным и незримым.
Время это наступило, однако, лишь в начале второго тысячелетия, после долгой подготовительной работы, состоявшей в постепенном отбрасывании всего слишком телесного и земного, что заключалось в эллинистическом и позднеантичном художественном наследии. В эпоху иконоборческих споров, когда определилось церковное учение об иконе, эта работа отнюдь еще не была закончена. Ни в нападках иконоборцев, ни в писаниях заступников иконы не могли быть учтены те приемы изображения, те черты иконописного стиля, что сложились значительно позднее, а если к ним уже и тогда намечался путь, то в письменности тех лет отражения это не получило. Поэтому ответ иконоборцам, данный решениями Седьмого Вселенского собора, не мог быть и не был полным; восполнение же свое он получил не в богословских писаниях последующего времени, а в самом иконном творчестве и вообще в расцвете религиозного искусства Византии. Тут и вопрос о сходстве, иначе говоря — о самой природе образа, возникавший в иконоборческих спорах лишь мимоходом, получил свое если не принципиальное, то фактическое решение.
Иконоборцы утверждали, что икона Христа невозможна или нечестива вследствие нераздельности и неслиянности Его природ. Божественное естество неизобразимо, изображать же одно человеческое — это значит вместе с несторианами отрицать их нераздельность и, кроме того, выдавать образ человека за образ Богочеловека; тогда как изображать человеческое, считая, что тем самым изображено и Божественное, естество — это значит впадать в монофизитство, отрицающее их неслиянность. Защитники иконы в опровержение этого приводили доводы не всегда убедительные и не исчерпывающие вопроса, как прекрасно показал о. Сергий Булгаков в первой главе своей книги «Икона и иконопочитание» (Париж, 1931). Они ссылались на вочеловечивание Господа, которое именно и делает Его изобразимым, но изобразимым, как у них выходит, все же лишь в Его человечности. Это более или менее и соответствует раннехристианским и ранневизантийским изображениям Спасителя, но не более поздним, к которым полностью применимы слова о. Сергия (Там же. С. 135): «Икона Христова есть единый образ Бога и Человека в Богочеловеке». И точно так же возражения иконоборцев против изображения Богородицы и святых на том основании, что изображения эти по необходимости будут относиться к земному их облику и бытию, а не к небесной хвале и славе, опровергнуты были не богословами VIII или IX века, а искусством последующих веков, как раз и научившимся иконописать все святое — как лица, так и события — во хвале и славе, им присущих.