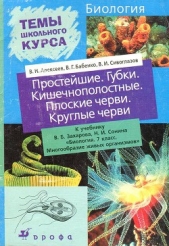Сыр и черви

Сыр и черви читать книгу онлайн
Известный итальянский историк, один из основателей «микроистории» реконструирует биографию и духовный мир «диссидента» XVI века — фриульского мельника, осмелившегося в эпоху жесткого идеологического диктата выступить со своим мнением по всем кардинальным вопросам бытия. Фактографическая тщательность сочетается в книге Карло Гинзбурга с умелой беллетризацией — сочетание этих качеств сообщило ей весьма высокую популярность.
Для всех интересующихся историей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы не хотим, разумеется, сталкивать между собой количественные и качественные исследования. Хотелось бы лишь указать на то, что когда речь заходит об истории угнетенных классов, количественные исследования с их стремлением к точности не могут обойтись (пока не могут обойтись, скажем осторожнее) без качественных с их пресловутым импрессионизмом. Острота Э.П. Томпсона о «грубом импрессионизме компьютера, который с тошнотворным упорством обрабатывает одну и ту же величину, отбрасывая все документальные данные, не заложенные в его программу» — отнюдь не безосновательна: компьютер, как известно, может лишь исполнять, но не размышлять. С другой стороны, только целый ряд частных и углубленных исследований может привести к составлению всеохватывающей компьютерной программы. Приведем конкретный пример. В последние годы был проведен целый ряд разысканий, посвященных производству и распространению книжной продукции во Франции XVIII века; в основе их — вполне законное стремление расширить рамки традиционной истории идей, обогатив ее огромным массивом источников, которые до сих пор были обойдены вниманием ученых (почти сорок пять тысяч названий). Только так, утверждали сторонники этого метода, мы можем учесть значение инертных, статических элементов в книжной продукции и вместе с тем оценить масштабы того нового, что вносят в нее произведения, рвущие с традицией. В ответ на это итальянский ученый Ф. Диас указал, что такой подход к исследованию грозит превратить его в трудоемкое открытие всем очевидных истин и вообще уводит его на исторически непродуктивную обочину 18. Свои возражения он подытожил следующим образом: французские крестьяне, жившие в конце XVIII века, осаждали феодальные замки вовсе не потому, что прочли «Ангела-хранителя», но потому, что «новые идеи, доносившиеся до них вместе с новостями о событиях в Париже», соответствовали их «издавна зревшему недовольству». Очевидно, что вторым своим возражением (первое много более резонно) Диас вообще отрицает существование народной культуры и какой-либо прок от изучения народных идей и верований, предлагая вернуться к старой истории идей, построенной исключительно по вертикали. На самом деле, количественные исследования заслуживают критики совсем за другое: они еще слишком прочно держатся за вертикаль. В основе их лежит убеждение, что однозначные исторические указания можно почерпнуть не только из текста, но и из одного названия. Это неверно и становится все менее верным по мере того, как понижается социальный уровень читателей. Альманахи, песенники, религиозно-назидательные книги, жития святых, все то, что составляло основную массу книжной продукции того времени, представляется нам теперь чем-то статичным, инертным, ничем не отличающимся друг от друга, но так ли воспринимал эту литературу современный ей читатель? Может быть та устная культура, носителем которой он был, воздействовала на его восприятие текста до такой степени, что текст переставал быть равным себе? Каждый раз, когда Меноккио говорит о прочитанных им книгах, мы встречаемся именно с таким восприятием текста, в корне отличающимся от отношения к тексту современного образованного читателя. У нас появляется возможность конкретно представить себе то расхождение, которое имелось между содержанием «народных» книг и тем, что извлекали из них крестьяне и ремесленники (на возможность такого расхождения справедливо указывала Боллем). Конечно, в истории Меноккио это расхождение оказывается чрезвычайно глубоким — вряд ли это был типичный случай. Но повторим еще раз: именно эта исключительность указывает нам направление дальнейших поисков. В том, что касается, к примеру, истории идей, лишь признав, что исторической изменчивости подвержена среди прочего и фигура читателя, мы приблизимся к созданию истории, отличающейся от прежней не только использованием количественных методов, но и качественно.
Разрыв между текстом и тем, что из него вынес и сообщил инквизиторам Меноккио, доказывает, что его мировоззрение не может быть сведено к книжному знанию. С одной стороны, оно определяется устной культурной традицией, имеющей, по-видимости, весьма отдаленные истоки. С другой стороны, оно обнаруживает близость к идеям, циркулировавшим в кружках склонных к инакомыслию гуманистов: к идеям веротерпимости, уравнивания религии и морали и т.п. Противоречие здесь только видимое; в действительности речь идет о цельной культуре, которую нельзя разделить на отдельные блоки. Даже если у Меноккио были прямые или косвенные контакты с ученой средой, его выступления в защиту веротерпимости, его мечты о коренном переустройстве общества отличаются несомненной оригинальностью и не могут быть объяснены пассивным восприятием посторонних влияний. Их истоки коренятся в непроницаемой глубине прошлого, в неизвестной нам культуре деревни.
Может возникнуть вопрос: не есть ли то, что нам известно о мыслях Меноккио, скорее проявление «ментальности», чем «культуры». Вопрос далеко не праздный. Для исследований ментальности характерна сосредоточенность на бессознательных, глубинных, пассивных элементах картины мира. Всякого рода пережитки, архаизмы, аффективные и иррациональные мотивировки — вот что составляет специфический предмет истории ментальностей, четко отграничивающий ее от параллельных и давно устоявшихся научных дисциплин, таких как история идей или история культуры (хотя для некоторых ученых последняя включает в себя все остальные). Можно подойти к случаю Меноккио с позиций истории ментальностей, но что тогда делать с той рациональной установкой, которая определяет его картину мира (но которая далеко не идентична нашим рациональным установкам)? Есть, однако, и более сильный аргумент против. Истории ментальностей свойственен внеклассовый подход, она изучает, как выразился один из ее представителей, то общее, что имеют между собой «Цезарь и последний из его легионеров, св. Людовик и крестьянин, вспахивавший его владения, Христофор Колумб и матрос с его каравеллы» 19. Поэтому определение «коллективная», часто добавляемое к слову «ментальность», звучит как плеоназм. Никто не ставит под сомнение полезность такого рода исследований; хотелось бы только указать на связанный с ними риск — они часто приводят к слишком поспешным обобщениям. Даже Люсьен Февр, один из величайших историков нашего столетия, не избежал подобной ловушки. Одно из его исследований, увлекательное, но в корне ошибочное, представляет собой попытку — оттолкнувшись от такой ярко индивидуальной и во всех отношениях исключительной фигуры, как фигура Рабле, — вычертить ментальные координаты целой эпохи 20. Пока развеивается миф о пресловутом «атеизме» Рабле, все обстоит благополучно. Но когда мы вступаем на почву «коллективной ментальности» (или «психологии»), когда мы слышим, что влияние религии на «людей XVI века» было одновременно всеохватывающим и всепроникающим, что от него было невозможно уклониться, как не смог уклониться Рабле, тогда аргументы утрачивают свою убедительность. Кто это — «люди XVI века»? Гуманисты, купцы, ремесленники, крестьяне? Выводы, сделанные в ходе исследования той тончайшей прослойки французского общества, которую составляли образованные люди, легко применяются — благодаря внеклассовой широте, заложенной в понятие «коллективной ментальности», — ко всему обществу. И за теориями коллективной ментальности вдруг открывается вполне традиционная история идей. От крестьянства, составлявшего подавляющее большинство тогдашнего народонаселения, Февр отделывается одной фразой — о «полудикой толпе во власти суеверий», а утверждение о невозможности в то время последовательно антирелигиозной позиции плавно переходит в достаточно тривиальную мысль о том, что XVII век это не XVI и Декарт — не Рабле.
Несмотря на эти ограничения, методы, позволившие Февру проследить многосложные связи, соединяющие индивида и исторически конкретную общественную среду, остаются образцом для подражания. Аналитический инструментарий, примененный им для изучения религии Рабле, может пригодиться и при изучении религии Меноккио — совершенно на нее непохожей. Но вот термин «коллективная ментальность» я заменяю на другой, также не вполне удовлетворительный — «народная культура», и считаю эту замену принципиальной. Классовый подход — это в любом случае шаг вперед по сравнению с внеклассовым.