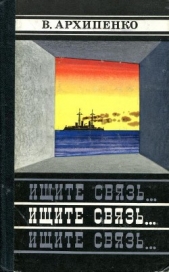Политэкономия соцреализма

Политэкономия соцреализма читать книгу онлайн
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Условия труда оставались вполне «героическими»: «Мы подымались в два часа ночи, в холод, вьюгу, грязные и голодные шли в кузницу продвигать детали. Утром мы приходили в свой пролет утомленные, не выспавшиеся, работали конечно хуже, но думали, что так надо делать, то есть штурмовать, нажимать. […] Мы хотели овладеть техникой всего производства – от блюмингов металлургического завода до конвейера […] на этом мы строили свою борьбу с фордизмом. Этим мы обосновывали свою сквозную работу, штурмовщину и толкачество» (С. 154). Как объяснил другой такой романтик, мы считали, что рабочих будут «перебрасывать с одной операции на другую; мы считали это «социалистическими поправками к фордовской системе». Эта идеология обезлички подводила «теоретическую базу» под заводской беспорядок», – как он понял несколько позже (С. 195).
Повествование о настоящем вполне романтично. Реальность преодолевается волевым усилием: «С трудом я кончил работу […] оделся и вышел на улицу. Холодно. В доме темно. В первом этаже ветер дует в разбитые окна. Поднимаюсь на третий этаж. Вся наша комната пропахла фрезолом. Я снимаю спецовку и хочу вымыться, потому что все тело как будто пропитано фрезолом. Воды нет. Ложусь в кровать, желтую от фрезола. Настроение плохое, тяжело от грязи, от холода. Форточка бьется от ветра. Я устал, но уснуть не могу. Так я лежу с открытыми глазами.
Раздается мягкая мелодия. Это по радио передают симфонию Шуберта. Я тихонько подпеваю, и сразу же отлегло от души. Стало радостно и спокойно. Передо мной прошел тридцатый год. Я снова наполнился уверенностью в том, что все будет хорошо, по–другому, и эти бессонные, штурмовые ночи отойдут…» (С. 155).
Важен, однако, не сам «показ тяжелых будней» (который позже будет восприниматься как «очернительство»), но способы снятия этой «тяжести», вытеснения настоящего, реальности, которая маркировалась как «азиатчина». Именно Америка помогает директору завода совершить переход от машинизма к «классовому» пониманию проблемы. Именно там он понял, что завод – это домен новых производственных отношений: «Объезжая заводы, я глазами своими видел, как производительные силы перерастали тесные капиталистические рамки. Заводы работали в треть оборота, сдерживая себя, растаптывая свое техническое изобилие. И каждый раз, когда я наблюдал эту растрату накопленных сил, их медленное разрушение хотя бы тем, что заводы работали не полную неделю, я с завистью мечтал: «Нам бы эти умные машины, станки, автоматы–уникум, прекрасную организацию производства»» (С. 55).
Однако эта классовая утопия столкнулась с «расейщиной», а оппозиция социализм/капитализм оказалась полностью поглощенной оппозицией Россия/Америка. «Кустарщина с первых же дней пробралась на завод величайшей точности и путала все наши карты, – вспоминает директор. – Мы метались от одного «узкого места» в производстве к другому, штопая их, а они возникали сразу в нескольких местах. Хаос царил во всем […] царила такая незразбериха, что люди теряли заказы на инструмент, забывали о самом главном, метались из стороны в сторону» (С. 60–62). И все же завод пустить удалось, и в этом директор увидел роль примера, воспитания: «Мы дали первый бой кустарщине и азиатчине» (С. 69).
Воспитательный дискурс играет важную роль не только в деле «перековки», но в самом процессе легитимации этого «вытесняющего» нарратива: реальность должна оставаться все время «чужой» для того, чтобы ею можно было овладевать. Эта установка отличает дискурс «ЛСТ» от дискурса «Былей». Сам воспитательный импульс вполне романтичен: преувеличивая возможности «переделки человека», он игнорирует косность «человеческого материала». «Когда поставили молодняк на работу, ребята чуть не целовали станки. Но не прошло и трех месяцев, как эти же ребята стали обращаться с машиной, точно с пеньком. Вместо того чтобы отвернуть гайку ключом, они отворачивали кувалдой. Станки заросли грязью. Кто виноват в этом? Руководители виноваты, мы с вами, товарищи, виноваты! Молодого рабочего приучили к грязи с первых же дней его работы на заводе» (С. 90).
В этих рассуждениях парторга «молодняк» рассматривается как этакий «чистый лист», на котором умелые «руководители» должны только научиться писать правильные письмена. Между тем «культурный рабочий» не рождался прямо из вчерашнего «лапотного крестьянина». Если и происходит рождение, то вполне маргинального персонажа, зависшего между деревней и городом и очень быстро «перековавшегося» в обычного «мещанина», которого так боялся Горький и ради борьбы с которым и затеял свое предприятие. «Мелкобуржуазное нутро» нового «пролетария», конечно, редко приобретало утрированно–гротескные черты персонажей Зощенко или Булгакова, но фактически в ходе индустриализации рождался вполне «культурный крестьянин», оторванный, впрочем, от земли (что лишало смысла сам «процесс перековки»). Его автопортрет мы и находим в «ЛСТ».
«Самое лучшее время у меня, я считаю, здесь началось. В деревне я так и был бы трактористом. Может, продвинулся, бригадиром стал бы, но это через долгое время. А здесь я за два года вон куда попал. Понятия больше получишь с людьми. В совпартшколе учусь. За два года я больше вырос, чем в деревне за все время, какое я там жил. Там я не имел ничего. Если бы не приехал сюда, так, может быть, одна фуфайка и была бы, а может быть, и ее не осталось бы» (С. 396).
Что же произошло здесь с Г. Ремизовым? «На строительстве я получал семьдесят рублей, а в ФЗУ – сорок восемь рублей стипендии. А на заводе первый месяц проработал, заусеницы скидывал, и сразу за две недели сто два рубля отхватил. Никогда столько сразу не зарабатывал. Купил тогда себе подушку, мыло, щетку зубную, порошок. В деревне зубы не чистил, а когда сюда приехал, увидел – как утро, все со щетками идут, и меня поинтересовало щетку взять. Купил еще полотенце. В другой раз получил получку – купил костюм. Костюм черный, суконный, хороший костюм. Галстук я тоже не носил, не уважал. Сразу одеть его как‑то трудно покажется: непривычен я. Дальше больше пошло. Купил я еще рубашку, пальто купил и два галстука взял, раза два надел. Так валяются они. В деревне их не носят, а тут, вижу, носят. На кого ни гляжу – галстук. Ну, уж взял попробовать» (С. 397).
Этот вполне зощенковский персонаж проходит странную эволюцию. С одной стороны, деньги на глазах превращаются в «культурную зажиточную жизнь», а сам Г. Ремизов – в пролетария. С другой, чем «культурнее» становится его жизнь (с зубным порошком и галстуком), тем более крестьянской она становится, а нотки «мелкого собственника» все отчетливее звучат в его рассказе. Совершенно очевидно, например, что этот «человеческий материал» совершенно непригоден для жизни «бытовой коммуной». В то же время перед нами – персонаж совершенно коммунальный. В рассказе другого рабочего о том, как после посещения завода Серго Орджоникидзе комсомольцы повели борьбу с «расхлябанностью», есть примечательное наблюдение: «Мы видели теперь, откуда растет эта психология расхлябанности, уравниловки и обезлички, сопротивление шести условиям т. Сталина. Это было выражение той мелкобуржуазной стихии, которая занесена на завод новыми рабочими, главным образом пришедшими из деревни. Это шло от тех мелкобуржуазных «героев», которые считали, что своей грязью и неряшливостью они спасают мировую революцию» (С. 201).
Вернемся, однако, к нашему персонажу – Г. Ремизову, с энтузиазмом учащемуся в совпартшколе. Вот как рассказывает он о своей учебе: «Любил я учиться. Как жалование получаю, чего больше, а книжек в обязательном порядке покупал. Купил я двухтомник Ленина – заплатил два двадцать. Потом Бубнова, по нему проходили историю партии, за него отдал рубль шестьдесят пять копеек, да за переплет двадцать. […] Потом по родному языку книгу купил, математические книги – дроби разные учил, потом беллетристику разную, то за двадцать, то за тридцать копеек покупал» (С. 397).
Этот книжно–финансовый нарратив выдает в рассказчике человека не просто «хозяйственного»: он хорошо помнит цену каждой купленной книги, но совершенно не упоминает о ценах на костюм и пальто (несомненно, куда более дорогих предметов) потому, что покупка книг все еще остается для него элементом скорее культурного капитала и даже роскоши, нежели предметом, купленным «по понятиям». Цены на последние он не фиксирует в памяти: «Когда переселился из барака в комнату, вымел, вычистил, пошел на базар, купил часы–ходики, два стула, чугунок, ведро, две чашки, два стакана, два блюдца, за зеркало отдал рубль. Этой весной взял на три рубля портретов Ленина, Сталина, Литвинова, «Броненосец Потемкин», «Расстрел бакинских комиссаров», – ну, и попа там смешного такого: заседание, значит, гульня у помещика, а он тут раззявил рот. Я прибил в головах» (С. 397). Зеркало и плакаты (в отличие от стаканов и чугунка) превращают нашего персонажа в «культурного» и «политически–сознательного» рабочего.