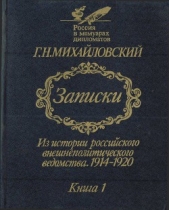Всеобщая история кино. Том. Кино становится искусством 1914-1920

Всеобщая история кино. Том. Кино становится искусством 1914-1920 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
„Шарло — беглец! Значит, он был в тюрьме? В смешной арестантской куртке он бежит на пляж. Полисмен. Два прохода между скалами. Нырянье. Бег. Преследование. Он спасает девушку. Его одевают, как светского франта. Завистник увидел фотографию беглеца в газетах. Бал. Музыка. Прохладительные напитки. Полиция. Лестница. Подъемное окно. Балкон, с которого можно лить воду на гостей. Флирт. И снова — скитания. Им не видно конца. Им не будет конца…”
Один из лучших „гэгов” этого удивительного фильма-погони, последнего из серии „Мьючуэл”, позволил Чаплину показать, что его комедийный стиль основан прежде всего на экономии средств. Поэтому он избегает излишних аксессуаров, которые утяжелили бы действие; только посредственные клоуны рассчитывают больше на эксцентричность аксессуаров и костюмов, чем на свою игру и талант.
„Я стараюсь всегда быть экономным. Я хочу сказать, что если какое-либо одно действие может вызвать само по себе два отдельных взрыва хохота, это куда лучше, чем два отдельных действия с тем же результатом.
В фильме „Искатель приключений” я весьма удачно посадил себя на балкон, где я вместе с молодой девушкой (Эдна Первиэнс) ем мороженое. Этажом ниже я поместил за столиком весьма почтенную и хорошо одетую даму.
И вот, когда я ем, я роняю кусок мороженого; проскользив по моим брюкам, оно падает с балкона на шею даме, которая начинает вопить и прыгать. Одно-единственное действие поставило в затруднительное положение двух людей”: Затем Чаплин анализирует причины, которые оказывают двойное комическое действие на широкую публику: „Как бы просто это ни казалось на первый взгляд, этот „гэг” "учитывает” два свойства человеческой при роды. Одно — удовольствие, которое испытывает публика, видя богатство и блеск в унижении. Другое — стремление публики переживать те же самые чувства, какие переживает актер на сцене или на экране.
Театр прежде всего усвоил, что народ, как правило, любит видеть богачей в затруднительном положении. Это происходит потому, что девять десятых людей бедны и в душе завидуют богатству одной десятой. Если бы я уронил мороженое на шею какой-нибудь бедной служанке, то, наоборот, вызвал бы симпатию к ней. К тому же домашней хозяйке нечего терять в смысле своего достоинства и, следовательно, ничего смешного не получилось бы. А когда мороженое падает на шею богачке, публика считает, что так, мол, и надо.
Утверждая, что человек испытывает эмоции, свидетелем которых он является, я хочу сказать, снова на примере мороженого, что, когда богатая дама вздрагивает, зал вздрагивает вместе с ней. Затруднительное положение исполнителей роли должно быть понятным публике, иначе до нее не дойдет смысл.
Зная, что мороженое холодное, зритель вздрагивает. Если бы я орудовал чем-нибудь таким, что публика не сразу бы узнала, она не дала бы себе мгновенного отчета в создавшейся ситуации. Именно на этом было основано швыряние пирожными с кремом в первых моих фильмах. Каждому известно, что пирожное легко раздавить, и, следовательно, каждому понятно, что чувствовал актер, в которого оно попадало”.

„Тихая улица”, 1917.

„Солнечная сторона”, 1919.


„Солнечная сторона".


„На плечо”, 1918.

В комических эффектах Чаплин ищет прежде всего доходчивости. Он считает, что его картины должны быть понятны всем, даже детям— и прежде всего детям. Он прибегает к аксессуарам и действиям, известным всему человечеству.
Человечество и вселенная для Чаплина не абстрактные понятия. Он знает, что общество делится на богатых и бедных. И что бедных — большинство. Он не льстит богачам, не потворствует их причудам, их лицемерию, не отстаивает интересы „праздного класса”[197], а передает чувства и стремления большинства человечества — тружеников. Такая цель тем более замечательна, что почти вся американская кинематография уже решительно примкнула к противной партии и послушно выполняет выраженные или подразумеваемые желания своих хозяев-финансистов. В этой целеустремленности и заключается секрет глубокого гуманизма, подлинного реализма Чаплина, неиссякаемости его творческих сил и его гениальности.
Серия картин фирмы „Мьючуэл” еще больше увеличила популярность Чаплина — такой популярности не знал ни один актер с самого возникновения кино.
„Он самый знаменитый человек в мире… он затмевает славу Жанны д’Арк, Людовика XIV и Клемансо. Только Христос и Наполеон могли бы соперничать с ним в известности”.
Это шутливое утверждение Деллюка выражает истину. В конце 1917 года весь мир (за исключением Центральной Европы) рукоплещет Чаплину. Его боготворят и арабы, и индусы, и китайцы, и сражающиеся на фронте солдаты. Его боготворят и интеллигенты. Особенно во Франции. В стране Мольера „этих двух гениальных комиков роднит не одна общая черта”.
„Чарли Чаплин, — отмечает Деллюк, — вызывает в памяти Мольера. Но Мольер становится весьма скучным в своих последних „придворных” произведениях, а Чарли Чаплин совершает головокружительный взлет, и кажется, что он никогда не прискучит. Больше того, следует ожидать что он создаст трагическое произведение”.
В этих строках, написанных в 1921 году, меньше пророческого, чем кажется. Уже в десятке фильмов под комической маской Чаплина чувствуется трагик. Бесспорно, Чаплин никогда не будет скучным или официальным, потому что, в отличие от Мольера, он творит ради народа, а не ради придворного этикета или предрассудков правящего класса… На протяжении всего его творчества вплоть до создания фильма „Мсье Верду”[198] гений Чаплина остается чисто народным. В конце концов стремление служить народу берет в нем верх над своей противоположностью — несколько пессимистичным индивидуализмом, от которого несвободна противоречивая натура Чаплина…
Итак, популярность Чаплина покорила и мыслителей и уличных мальчишек. Вернейший признак гения — способность одновременно выражать стремления большинства людей и всю сложность человеческой психики.
Передовые люди Франции первые приветствовали это чудо, предоставив снобам восхищаться фильмом „Вероломство”. Пикассо, Аполлинэр, Макс Жакоб, Блез Сандрар, Фернан Леже, Арагон восторгались маленьким человечком и ревностно рекламировали его. Самый известный критик и историк французского искусства, Эли Фор посвящает этому миму многие философские страницы и приветствует его как „подлинного гения”, сравнивая с Шекспиром[199].
„Лучше всего меня поняли во Франции”[200], — заявил позднее Чаплин. Ни в какой другой стране, не считая Советской России[201], ему в такой полной мере не воздавали должное. Характерно, что и в 1950 году две лучшие книги, посвященные Чаплину, изданы во Франции. Деллюк в 1921 году и Лепроон в 1935 и 1946 годах отстаивали тезис о гениальности Чаплина и анализировали его творчество с таким благоговением, словно изучали творчество Мольера.
В противоположность им, почти все американские работы — биографические книжки, подобные тем, какие посвящаются любому модному актеру, — это сплетни лакеев, которым отказали от места, или случайной знакомой[202]. Показательно также, что в замечательной истории кино, написанной с таким умом и знанием Льюисом Джекобсом, посвящается три больших главы, 60 страниц, Гриффиту, и неохотно, скороговоркой излагается на 12 страницах жизненный путь Чарли. А ведь чаплиновское творчество начиная с 1916 года воплощается в серию классических шедевров, выдержавших испытание временем. Зато мы далеко не уверены, останется ли потомству что-нибудь кроме трех фильмов от громадного, но полного мусора творческого наследства какого-нибудь Гриффита[203]. Итак, уже в 1917 году Чаплин — избранник простых людей и философов — достиг вершины славы. Его контракт в „Мьючуэле” истек. По мнению м-ра Ремси, контракт, подписанный с Фрейлером, был весьма выгодным делом: