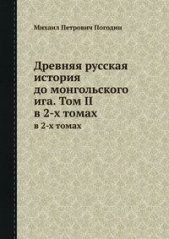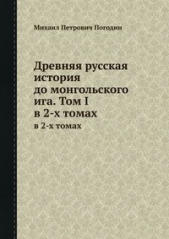Паралогии

Паралогии читать книгу онлайн
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом пространстве сакрального порядка обитают Сталин-тигр («Он жил как пламенный орел…»), лебедь-Ворошилов, ворон-Берия и «страна моя — невеста вечного доверия» («Лебедь, лебедь пролетает…»). Здесь торжествует всеобщая причинно-следственная связь:
В этой области нет и не может быть неоправданных жертв — всякая жертва оправдана своим участием в создании героического мифа, и даже погибшие спасены, ибо «стали соавторами знаменитого всенародного подвига, история запомнила их» («Как жаль их трехсот пятидесяти двух юных, молодых, почти еще без усов…»). Здесь нет разницы между жизнью и смертью — тем более что и мертвые вожди все равно «живее всех живых». Здесь торжествует всеобщая любовь, воплощающая предельную полноту бытия:
Если в созданной Богом реальности «маленький человек» окружен хаосом, то в сакральном пространстве власти («вечного социализма») его со всех сторон обступает Народ — своего рода платоновская «идея», недоступная для логического понимания, но безусловно несущая благость причастному к ней:
Или:
Запутанность этих и подобных построений не только пародирует известный идеологический постулат об изначальной и извечной правоте народа, но и выражает мучительную коллизию «маленького человека», который как бы представляет народ, но в глубине души чувствует свою к нему непринадлежность, поскольку народ — категория сакрального, принадлежать к этому миру может только государственный поэт — да и то, так сказать, в процессе говорения [483].
Приговский «государственный поэт» — это высшая форма существования «маленького человека» [484]. Голос «маленького человека», косноязычный и примитивный в формулировках, постоянно слышится в сочинениях «государственного поэта», буквализирует скрытую логику Власти и тем самым остраняет утопию сакрального Порядка. Но дело не только в этом: переместившись в область высшего порядка, «маленький человек» лишается последнего, что придавало ему если не индивидуальность, то некое обаяние — домашности, привязанности к «сыночку», «курочке», «котлеточке». Конкретная реальность его существования окончательно замещена ритуальными жестами, безвоздушным пространством симулякров трансценденции. В этом смысле приобщенность к сакральному дискурсу власти достигается ценой окончательного обезличивания и опустошения жизни «маленького человека».
Приговская критика советского сакрального на самом деле оказывается критикой любых попыток построить идеальный план существования — религиозных, идеологических, литературных. Парадоксальным образом, «от противного», Пригов утверждает невозможность интеллектуального и духовного упорядочивания реальности, тщетность всех и всяческих попыток одолеть хаос жизни путем создания сакральных конструкций в сознании, в языке, в культуре. С этой точки зрения весь предшествующий и настоящий культурный опыт есть опыт пустоты, опыт бездны, над которой непрерывно строятся воздушные мосты, ошибочно принимаемые за реальность.
Владимир Сорокин в своем раннем творчестве, продолжая эксперименты Пригова на материале прозы, идет дальше своего «старшего товарища». Создавая тексты-персоны — игровые, но поразительно артистичные модели различных авторитетных, в первую очередь советских, дискурсов, — прозаик не только выявляет лежащий в основании дискурса ритуал власти, но и выносит на первый, сюжетный, план «бессознательное дискурса», тайну его сакральности. Именно грубое кровавое насилие, восходящее к самым архаическим формам власти, понимается Сорокиным как ядро и как источник символического авторитета любого дискурса. Начав с соц-артистской игры с соцреалистическими сюжетами, Сорокин очень скоро понял, что та же система приемов приложима и к любому другому, наделенному авторитетом — а следовательно, и властью — дискурсу. Объекты его художественного исследования уже в 1980-е годы выходят далеко за пределы соцреализма, хотя соцреализм и сохраняет для Сорокина значение «идеальной» модели любого авторитетного дискурса, органически стремящегося утвердить свою абсолютную власть над сознанием читателя и культурой в целом. В его творчестве возникают травестирующие интерпретации диссидентского дискурса («Тридцатая любовь Марины» и «Месяц в Дахау») и дискурса русской классики («Роман»). Сорокин исключительно талантливо вживается в любой дискурс, но чем этот дискурс авторитетнее, тем вернее и скорее он будет доведен до того же абсурдистского или садистического ядра, которое писатель первоначально открыл в соцреализме. В каждом тексте писатель демонстрирует каскад сюжетных и надсюжетных ритуалов, заставляющих дискурс «раздеться», разоблачиться, раскрыв свои методы насилия — различные модели жертвоприношения.
Так, например, в сюжете повести «Падеж», включенной в книгу «Норма», можно увидеть несколько ритуальных структур. Во-первых, центральный эпизод повести построен на сдвиге внутри традиционного соцреалистического сюжета: выясняется, что падеж скота, случившийся в колхозе, касается не животных, а людей — классовых врагов, «вредителей», содержавшихся в скотском состоянии. Ритуально-мифологическое превращение людей в животных (архаическая форма наказания, гнева богов) сочетается с натуралистическим описанием трупов и бюрократической по стилистике «объективкой» о каждом из них, по памяти приводимой председателем колхоза:
— Ростовцев Николай Львович, тридцать семь лет, сын нераскаявшегося вредителя, внук эмигранта, правнук уездного врача, да, врача… поступил два года назад из Малоярославского госплемзавода. — Родственники! — Кедрин снова треснул по двери. — Сестра — Ростовцева Ирина Львовна использована в качестве живого удобрения при посадке Парка Славы в городе Горьком [485].