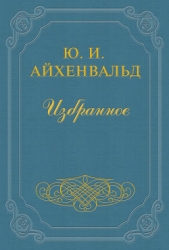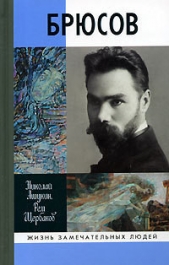Сотворение Карамзина
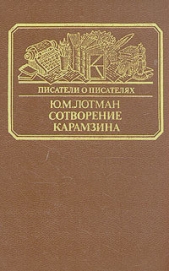
Сотворение Карамзина читать книгу онлайн
Издаваемая книга — не исследование творчества Карамзина в целом и не биография в смысле перечня внешних фактов его жизни. Это биография души, попытка раскрыть внутренний пафос исканий писателя, который, как считает Ю. М. Лотман, всю жизнь выковывал себя. Отсюда и название книги «Сотворение Карамзина». Смысл книги — в показе исторической значительности морального «самосотворения».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Карамзин разделял просветительскую теорию, согласно которой зритель будет сочувствовать героям пьесы и воспримет идеи автора только, если на сцене увидит себя или сможет вообразить себя в тех же положениях. Расширяя эту концепцию, он хотел, чтобы читатель увидал в «русском путешественнике» не Ментора, учителя с недосягаемым уровнем мудрости, а обычного человека, с которым мог бы сравнить себя. Это заставляло отвергнуть в качестве образца и любимого Карамзиным Стерна [345]. Стернианский повествователь был слишком парадоксален, слишком капризен, слишком из всех рядов вон выходящим. Для избранной Карамзиным цели он не годился. Нужный ему образ повествователя Карамзин не мог найти готовым в литературе. Его приходилось создавать. Это должен был быть странный двойник: читателю надо было думать, что это сам Карамзин, а Карамзин считал, что это его будущий читатель.
Самое поразительное, что эксперимент удался. Карамзин создал не только произведение, но и читателя. У всякого, кто изучает читательскую аудиторию 1780-х и 1800-х годов, создается впечатление, что за эти двадцать лет произошло чудо — возник читатель как культурно значимая категория. В 1770-е годы А. Е. Лабзина (тогда, еще по первому мужу, Карамышева), хотя и очень юная, но уже замужняя женщина, жена европейски известного ученого-геолога и воспитанница писателя Хераскова, еще не знала, что такое роман. Когда заходил литературный разговор о романах в доме Херасковых, ее высылали из комнаты, чтобы молодая женщина не развратилась. «Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уже несколько раз слышала. Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны (Херасковой — одной из первых женщин-писательниц в России. — Ю. Л.), о каком она все говорит Романе, а его никогда не вижу. Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются; «но тебе их читать рано и не хорошо». Характерно поучение, которое ей сделал Херасков, считавшийся тогда «старостой русской литературы»: «Опасайся читать романы: они тебе не принесут пользу, а вред могут сделать» [346]. Достаточно сопоставить с этим духовный кругозор Татьяны Лариной, чтобы увидеть, какой скачок произошел в читательских интересах. При этом мы говорим именно о той «дамской» аудитории, на которую призывал ориентироваться Карамзин.
Русская литература знала писателей более великих, чем Карамзин, знала более мощные таланты и более жгучие страницы. Но по воздействию на читателя своей эпохи Карамзин стоит в первом ряду, по влиянию на культуру времени, в котором он действовал, он выдержит сравнение с любыми, самыми блестящими, именами.
Образ повествователя в «Письмах» очень сложен: он распадается на целую гамму отличных друг от друга и порой взаимоисключающих проявлений. В целом ряде эпизодов это — чувствительный юноша с теми признаками инфантилизма, которые после Руссо сделались знаком искренности и «естественности». Тип этот сохранился в системе романтизма. Выражения «ребенок», «дитя» как положительные оценки поэта (и особенно часто — женских персонажей) будут устойчиво сопутствовать одному из вариантов романтического героя [347]. Роль чувствительного молодого человека, вздыхающего над Стерном и плачущего, читая Вертера, была легкой, и сразу нашлось достаточно охотников примерить ее на себя. Для нас сейчас интересны не малодаровитые писатели типа Шаликова или Измайлова, принявшиеся усердно опошлять популярный жанр, а читатели. То, с какой легкостью «человек из партера» усвоил фразеологию, маску, роль «чувствительного путешественника», свидетельствует, что это было именно созревшее, уже ждущее своего выражения лицо времени. С одной стороны, это было просто и доступно для имитации, с другой, обыденная жизнь и обыденный человек получали своего литературного — следовательно, «благородного», культурно значимого — двойника. Это подымало читателя в его собственных глазах, внушало уважение к себе и приучало наблюдать себя со стороны в качестве достойного объекта литературы.
Так, уже в 1797 году («Письма» еще не были полностью опубликованы!) оставшийся безымянным молодой человек записывал в своем дорожном дневнике [348].
Моя дорожная записка
Увы! Сердце мое томится; слезы льются обильно из глаз моих; и я стеню с отчаяния, не видя впереди себя ничего, кроме мрака.
Вертер, письмо тридцать второе.
Предисловие
Моя дорожная записка мне нравится, может быть, для того, что моя,и что я могу смотреться в нее, как будто бы в зеркало.
<…> Может статься есть люди, которым минута уединения несносна! Что принадлежит до меня, мне приятно быть с самим собою. Я даю волю моему воображению; оно переносит меня от сцены к сцене, изображает живо в моей памяти прошедшие годы моей жизни, представляет мне отсутствующих любезных, и в то время, как нахожусь я с ними в разлуке, его обольщение дает мне вкушать приятность свидания!
Милая [349]! Сколь часто воображение, льстя сильнейшей привязанности души моей, являет мне тебя! <…> Вертер! Я не удивляюсь, что конторщик отца твоей Шарлоты (так! — Ю. Л.) мог говорить с восторгом об времени, которое провел он на цепи в безумном доме. Он не чувствовал, что он лишен свободы: пружины его воображения были натянуты, страсть занимала всю его способность мыслить, дни, недели, месяцы протекали для него в мечтаниях.
Далее наш автор застрял со своей коляской ночью в ледяной луже. В дневнике это отразилось так:
«Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору — между тем, как люди мои трудились около повозки — я сидел посреди рощи на льду… один… и думал.
Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <…> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение!» [350]
Еще привычнее чувствовал себя читатель, когда из-за плеча повествователя показывалось лицо модника и щеголя, дамского вздыхателя, любителя щегольнуть французским словцом или знанием светских обычаев. Охотно соединяя эти два типа поведения, читатель совсем уже чувствовал себя литературным героем. И одновременно он получал жест и язык. Жизнь его из безымянного существования превращалась в культурное бытие.
Но вдруг в тексте «Писем» следовал маленький, почти или совсем незаметный сдвиг — и повествователь оказывался на вершинах культуры своего века, равноправным собеседником величайших умов, зрителем важнейших событий. И неизменно он был на уровне своих собеседников и своей эпохи. В голове его вдруг обнаруживалась целая библиотека, история и философия уживались в ней с поэзией, романами и «дней минувших анекдотами». Но переход на эти вершины был столь пологим, путь — таким постепенным, что читатель, только что чувствовавший себя в привычном кругу, не замечал, как оказывался лицом к лицу с высочайшими собеседниками. И ему начинало казаться, что беседовать с Кантом или Гердером — просто и естественно, что и он может так запросто зайти в Национальную ассамблею и оценивать красноречие Мирабо или Мори, а потом зайти побеседовать с Лавуазье или Бартелеми, послушать, как заикается Кондорсе, восхититься Рейнским водопадом и подумать: не поехать ли в Италию? И главное, что он обладает для того, чтобы проделать этот путь вместе с «русским путешественником», необходимым культурным багажом и талантом. Именно в том, как тактично, незаметноподнимал Карамзин читателя до своего уровня, сказался его величайший такт культурного деятеля и талант популяризатора.