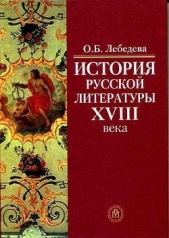Санскрит во льдах, или возвращение из Офира

Санскрит во льдах, или возвращение из Офира читать книгу онлайн
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот почему, надо полагать, ни одна из развитых социальных утопий, русская ли, западная, не оставляет человеку половой свободы, везде эти отношения подвергаются извнешнему, не от самого человека идущему нормированию, регулированию: тут и общественное, а не семейное воспитание детей; и общие женщины — именно по распоряжению власти общие, а не по свободному выбору самих людей, мужчин и женщин.
На первый взгляд удивительно, а по существу естественно: суждения молодого Платонова совпадают с взглядами коммунистических теоретиков «половых отношений». Один из них писал:
«Ведь в интересах революции максимально организовать социальную энергию, а не отдавать ее во власть существующему хаосу. Половая же область похитила… изрядную часть этой общей социальной энергии» [42].
Организовать, чтобы не было хаоса (этим словом именовали индивидуальную свободу, не поддающуюся централизованному планированию и потому подлежащую искоренению, разумеется, вместе с ее носителем, от которого она неотторжима). Пол же — именно «хаос», т. е. не постижим средствами тех незамысловатых понятий, которыми пользуются социальные утописты, чтобы объяснить, почему грядущее таково, а не иное. Для них главное — организовать, а соответствует это или нет природе человека — это их не заботит, ибо для них истина давно ясна, и этой «истине» все их действия безусловно соответствуют.
Если, к примеру, половые отношения «похищают» энергию, необходимую для созидания нового общества, ее надо из той области перевести в эту — словно речь о перекачке воды из одного бассейна в другой.
«Так как пролетарий и экономически примыкающие к нему трудовые массы составляют подавляющую часть человечества, революционная целесообразность тем самым является и наилучшей биологической целесообразностью, наибольшим биологическим благом…» [43].
Совсем как Платонов: биологическое выводится из идеологического; что хорошо пролетариату (читай: революции, коммунизму), то и биологически хорошо, будто весь органический мир возник из коммунистической идеи. Аналогичным было отношение коммунистических теоретиков к полу — безусловно утопическим, и молодой Платонов лишь выразил эту типологию.
Вот, к примеру, что писал в 1923 г. один из тогдашних руководителей советского государства: «По мере устранения политической борьбы — а во внеклассовом обществе ее не будет — освобожденные страсти будут направляться по руслу техники, строительства, включая сюда и искусство, которое, конечно, обобщится, возмужает, закалится и станет высшей формой… жизнестроительства» [44].
Искусство для автора — одна из технологических разновидностей, поскольку сам человек в его глазах — подручное средство, используемое для разных целей. Поэтому страсти аналогичны электроэнергии либо нефти — и те и другие можно направлять в зависимости от производственных нужд. И еще.
«Человек примется, наконец, всерьез гармонизовать себя самого. Он поставит себе задачей ввести в движение собственных органов… высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением — и, в необходимых пределах, подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно — экспериментальной» [45].
Переведем дух. Автор, предполагаю, не затрудняет себя перечитыванием написанного. Физиологическая жизнь станет коллективно — экспериментальной… Что это значит? Кому и чему нужен такой эксперимент, ради каких результатов? Автора это не заботит, но по одной, кажется, причине: человек в качестве участника и объекта эксперимента не его предмет. Автор имеет дело с идеями и последствиями эксперимента не занят. Я уже не говорю о содержании его прогноза.
У литературного и социального утопизма в России были черты, общие с большинством западноевропейских утопий, однако в отечественной утопии есть признаки, свойственные лишь ей. А. А. Богданов, один из первых теоретиков советской культуры, писал, определяя, по его мнению, отличительную особенность пролетарской культуры как таковой:
«Природа воспринимается глазами коллективиста; его символы — общие переживания леса, а не индивидуальные переживания какой‑нибудь березки или сосенки…» [46].
Не правда ли, знакомая лексика? Вспоминаете, читатель? Это Е. В. Базаров («Отцы и дети» И. С. Тургенева): «Люди, что деревья в лесу. Ни один ботаник не станет заниматься отдельною березой».
Богданов — начитанный автор, сам писал. Нельзя исключить, что «лес — дерево» попали в его лексику из Тургенева. Но в равной степени справедливо, что совпадение нечаянно, и тогда оно приобретает особое значение — его причиной становится не простая памятливость, а структура мысли, устойчивое мировоззрение, складывающееся стихийно, под влиянием неконтролируемых обстоятельств ежедневного и многовекового исторического существования. Можно заключить, что и Тургенев проницательно увидал набиравший силу общественный тип: и действительность пошла в направлении, благоприятном для людей этого, а не другого типа. А. Богданов принадлежал как раз к «базаровской» генерации.
Из статьи А. Платонова «О культуре запряженного света и познанного электричества» (1922):
«Человек прошлый и настоящий жил и живет чувствами, настроениями; а всей этой многоголосой, крайне недисциплинированной органической бандой командует хребет, позвоночник… — область бессознательной физиологической деятельности… Я хочу сказать, что душа прошлого и в большинстве теперешнего человека проявляется только в отношении к женщине, в поле» (3, с. 521).
Отчего же, пол — это и отношение женщины к мужчине, взаимоотношение. Взгляд Платонова односторонен, из него следуют с неизбежностью схематизация бытия, упрощение, а значит, искажение личных и социальных связей. Существо, образ которого сложился в уме Платонова, может быть очень условно названо «человеком» — такой‑то и мог стать материалом не только литературных, но социальных экспериментов. Еще бы, люди — те же деревья, а лес рубят — щепки летят. Ни один ботаник (т. е. политик) не станет заниматься отдельной «щепкой».
В основании литературной утопии лежит, кроме недовольства сложившимся государственным порядком, примитивное представление о человеке. Художественное и публицистическое творчество молодого Платонова это подтверждает. «В чем суть коммунистической культуры?» — спрашивает он. В том, чтобы «все видимое и невидимое сделать дисциплинированной, отрегулированной производительной силой» (3, с. 522).
Сравним: «Плановое хозяйство, четко регулируя общественные взаимоотношения, должно создать в организме наиболее рациональные общественно — рефлекторные сочетания (биологический тейлоризм) и сведет к нулю все травматизирующие биохимические факторы» [47].
Автор полагает, плановое хозяйство способно регулировать биохимию организма, минуя прямое биохимическое воздействие. Да ведь это шаманизм, первоначальная магия в чистом виде. Платонов целиком разделяет эти убеждения — дисциплинировать все и превратить в производительную силу.
Спустя много лет после этих слов, в конце 80–х и в начале 90–х годов XX столетия наша газетная публицистика заговорила о русском фашизме, недоумевая: откуда он в стране, так потерпевшей от фашизма? Естественный вопрос, однако сопоставим теорию и практику германского фашизма с тем, что говорилось и делалось в России после революции. Если отбросить национальные различия, много похожего: дисциплина, производство, вмешательство во все области индивидуальной жизни; коллективные ценности, пренебрежение личным бытием, примитивный образ человека. Одна из очень важных причин, объясняющих, я думаю, отчего западный мир поднялся против фашизма, состоит как раз в этом — фашизм разрушал исторические ценности, выработанные в течение столетий, в частности ценность индивидуальной жизни.