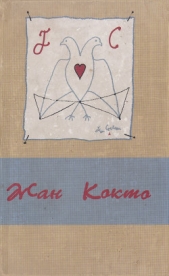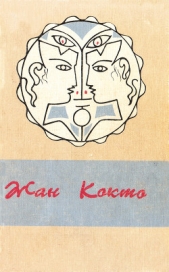Эссеистика
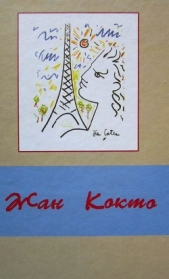
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тьма этих детей еще дремлет. Наша — бурлит. Она в состоянии порождать настоящие опухоли, чудовищные беременности. Она может оплодотворить нас такими существами, какие появляются разве что при изгнании бесов, — и об этом следующая глава.
О рождении поэмы
Но ангел, чей улар поверг его ниц, это он сам.
Только что я оказался опытным полем для одного из четвертований а-ля Равальак {231}, когда несколько лошадей рвут человека на части, — этому испытанию подвергают нас противоборствующие силы, для которых мы являемся и Гревской площадью. Решив проанализировать рождение одной из моих поэм. «Ангела Эртебиза», как раз подходящего, как мне кажется, для того, чтобы проследить соотношение сознательного и бессознательного, видимого и невидимого, — я обнаружил, что не могу писать. Слова высыхали, путались, толкались, налезали друг на друга, бунтовали — точно больные клетки. Они принимали под моим пером такие позы, что никак не могли соединиться друг с другом и организовать фразу. Я упорствовал, полагая, что мной движет та самая мнимая прозорливость, которую я противопоставляю внутренней тьме. Я уже начал думать, что никогда не освобожусь от нее, что с годами мой проводник заржавел, — а это было бы хуже всего, потому что независимо от того, свободен я или нет, я уже не смог бы взяться ни за какую работу. Я все стирал, рвал, начинал сначала. И всякий раз оказывался в том же тупике. Всякий раз спотыкался о те же препятствия.
Я уже совсем было решил отказаться, когда нашел на каком-то столе мою книгу «Опиум». Я открыл ее наугад (если позволительно так выразиться) и прочел абзац, объяснивший мне мою беспомощность. Меня подводила память, она путала даты, пережимала пружины, корежила механизм. Глубинная память восстала против этих ошибок, а я этого даже не заметил.
Искаженная перспектива выталкивала одни обстоятельства вперед других, в то время как в действительности они располагались в обратном порядке. Таким образом, наши давние поступки предстают точно в перевернутом телескопе, их неверная оркестровка является результатом одной-единственной фальшивой ноты, одного-единственного лжесвидетельства, произнесенного тем, кто пытается себя обелить.
До поэмы «Ангел Эртебиз» символ «ангела» в моих произведениях никак не был связан с какими бы то ни было религиозными образами, несмотря на то, что грек Эль-Греко их обработал, наделил особым смыслом и тем навлек на себя гнев испанской инквизиции.
Этот образ напоминает, пожалуй, картину, которую экипаж сверхтяжелого бомбардировщика № 42.7353 наблюдал, сбросив на землю первую атомную бомбу. Летчики описывали пурпурное зарево и смерч невероятных оттенков. Им не хватало слов. То, что они увидели, так и осталось внутри них.
Сходство между словами «ангел» (ange) и «угол» (angle), легкое преобразование «ange» в «angle» путем прибавления «l» (или «aile», крыла) — один из курьезов французского языка, если только в подобных вещах могут быть курьезы. В иврите — я знал это — нет никакого курьеза, «ангел» и «угол» в нем — синонимы.
Падение ангелов символизирует в Библии сглаживание углов, то есть вполне нормальное образование классической сферы. Лишенная своей геометрической души, образованной переплетением гипотенуз и прямых углов, сфера уже не покоится на точках, заставлявших ее лучиться.
Я знал также, что нельзя допустить, чтобы в нас изгладилась наша геометрическая сущность, что падение наших ангелов — или наших углов — это опасность, грозящая тем, кто слишком держится за землю.
В Книге Бытия пропущен эпизод, связанный с падением ангелов. Эти фантастические, повергающие в смятение существа уестествили дочерей человеческих, и от их союза родились великаны — «géants». Соответственно, «géants» и «anges», великаны и ангелы, в еврейском сознании смешиваются. Гюстав Доре великолепно изобразил в глубине диких ущелий нагромождение этих опрокинутых навзничь мускулистых тел.
Откуда возник видимый образ ангела? Как это нечеловеческое существо обрело человеческий облик? Вероятно, человек пытался осмыслить загадочные силы, очеловечить некое абстрактное присутствие — чтобы хоть отдаленно узнать в нем себя и перестать его бояться.
Явления природы — молния, затмения, потоп — уже не кажутся роковыми, когда являются частью подвластного Богу видимого войска.
То, что составляет это войско, обретая сходство с человеком, утрачивает непостижимую для сознания беспредметность, эту безымянность, пугающую в темноте детей и заставляющую их холодеть от ужаса, пока не зажжется лампа.
Именно это чувство — безо всякой, даже отдаленной связи с Апокалипсисом — породило греческих богов. Каждый бог узаконивал какой-нибудь порок или возвеличивал добродетель. Боги курсировали между небом и землей, между Олимпом и Афинами, как между этажами здания. Их присутствие успокаивало. Ангелы же, судя по всему, были воплощением тревоги.
Утонченные, жестокие чудовища, в высшей степени самцы и вместе с тем андрогины: летающие углы; так я представлял себе ангелов до того, как убедился, что их невидимая сущность может принимать форму поэмы и становиться зримой без риска быть увиденной.
Моя пьеса «Орфей» изначально была задумана как история Пречистой Девы и Иосифа: явление ангела (подмастерья плотника) порождает сплетни, необъяснимая беременность Марии настраивает против нее назаретян и вынуждает их с Иосифом покинуть деревню.
Интрига заключала в себе такое количество несовпадений, что я отказался от замысла. За основу нового сюжета я взял историю Орфея, в которой необъяснимое рождение стихов заменяло рождение Сына Божьего.
Тут тоже должен был сыграть роль ангел — в обличье стекольщика. Но этот акт я написал значительно позже, в Вильфранше, в отеле «Welcome» — где я почувствовал себя достаточно свободным, чтобы одеть его в синий комбинезон и вместо крыльев приделать ему на спину стекла. А еще несколько лет спустя он и вовсе перестал быть ангелом и в моем фильме превратился уже в какого-то молодого мертвеца, шофера принцессы. (Так что журналисты ошибаются, называя его ангелом.)
Если я забегаю вперед, то лишь с целью объяснить, что ангел как персонаж давно и безучастно жил во мне, не причиняя никаких неудобств, вплоть до рождения поэмы, а когда поэма была окончена, я увидел, что он безобиден. В пьесе и фильме я сохранил только его имя. Воплотившись в поэму, он уже не требовал от меня ни заботы, ни внимания.
Вот отрывок из «Опиума», раскрывший мне глаза на то, почему у меня не получалась эта глава. Написанное относится к 1928 году. Я полагал, что к 1930-му.
«Как-то я отправился к Пикассо на улицу Ла Боэси и, очутившись в лифте, вдруг почувствовал, что становлюсь все выше и выше, одновременно с чем-то ужасным рядом со мной, да к тому же еще и бессмертным. Чей-то голос крикнул мне: „Мое имя написано на табличке“. Лифт вздрогнул, я очнулся и прочел на медной табличке, вделанной в ручку лифта: „Лифт Эртебиза“.
У Пикассо, помнится, мы разговорились о чудесах. Пикассо заявил, что вообще всё чудо, что не раствориться в собственной ванне — тоже чудо».
Сейчас я сознаю, как сильно тогда подействовала на меня эта фраза. В ней мне увиделась целая пьеса, в которой чудеса не иссякают, соединяют в себе комедию и трагедию и завораживают не меньше, чем взрослый мир завораживает ребенка.
Я и думать забыл об эпизоде в лифте. Как вдруг все переменилось. Идея пьесы развалилась. Засыпая вечером, я внезапно просыпался среди ночи и уже не мог уснуть. Днем я тонул в полудреме, барахтался в вязком месиве невнятных снов. Это нарушение ритма сделалось ужасным. Мне и в голову не приходило, что внутри меня живет ангел, и только когда имя Эртебиз стало наваждением, я это осознал.