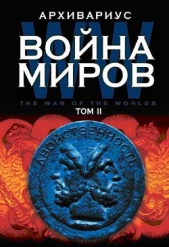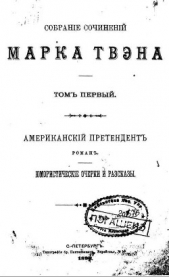Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевского ума, нередко приводила к суждениям опрометчивым и поспешным по поводу событий не столь уж значительных и оцениваемых односторонне, с точки зрения одних лишь междугосударственных отношений. В предвидении ближайшего будущего он часто ошибался, считал, например, в 1870 году, что Франция неминуемо раздавит Германию, хотя будущее более отдаленное угадывать умел, и в бисмарковском «культуркампфе» (как он о том писал в предсмертном письме барону Пфеффелю) узнал все то, что полвека спустя составило идею тоталитарного государства. Россию он видел в грандиозной — и совершенно верной — всемирно-исторической перспективе, однако несколько отвлеченной и внешней в силу самой этой грандиозности. Посещение Москвы и Кремля после двадцатилетнего пребывания за границей дало ему образ византийско-русского мира, более древнего в его истоках, чем сам Рим, и к этому чувству прошлого неизбежно присоединилось, говорит он, «предчувствие неизмеримого будущего». Рядом с таким взглядом обычные славянофильские мельче, но теплей. Завороженность будущим, вырастающим из самой глубины прошлого, приводит к ослаблению чувства конкретной русской истории, которая Тютчева, по-видимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской действительности, в которой он слишком склонен был видеть лишь самое близкое — политические интриги или самое общее — российскую державу в ее отношениях с другими политическими силами. Оттого-то политические стихи его и слабей других, что их питают сравнительно поверхностные чувства и мысли, тогда как все то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выражения. Если же пелену приподнять, сразу открывается совсем иной образ России, который в Тютчеве жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нет ничего общего с тем, что лег в основу его политической мысли и политической поэзии. Или если общее есть, то разве лишь то, о чем говорит замечательная формула, найденная однажды в Варшаве пятидесятилетним поэтом, из очередной заграничной поездки возвращавшимся на родину: «грязь милого отечества, полная будущим», cette salete pleine d'avenir de la chere patrie.
Часто в стихах и чаще еще в письмах встречается у Тютчева эта тема — возвращение домой, и каждый раз чувствуешь, как тягостен возврат, как грустно расставаться с тем, что осталось позади, как трудно дастся ему Россия. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существования вне родины, и время подумать о пристанище в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лет. И не только от зимы он отвык, но и от осени, и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды — что значило немало для человека, у которого от перемен погоды менялся и весь строй души [8]. В письмах к жене с поразительным постоянством повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербурге, на Островах, лето 1852 года прошло недурно, однако погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нежно-серой в решительно-черную». Август 1854 года, кроме эпистолярных восторгов, породил и стихотворение «Какое лето, что за лето», а когда 24 числа сильный ветер положил конец очарованью, Эрнестина Федоровна получила приличное случаю торжественно – грустное поминальное письмо. Славословий зиме Тютчев не слагал, она и вообще редко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующие с морозом «девичьи лица ярче роз» его пленяли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогретое лето и теплое начало осени. Июльскими днями 1856 года, проведенными в Петергофе, он остался настолько доволен, что назвал их сверхъестественными для тех широт, зато холодный июнь два года спустя заставляет его лишний раз воскликнуть: «Ах, что за страна!» («Ah! quel chien de pays!»): лучшего от России ожидать трудно. Ведь и в тех августовских стихах говорится:
Настоящая ласка, настоящее тепло — только там, «на золотом, на светлом юге». Поэт только и мечтает о том, чтобы
Конечно, если бы все ограничивалось нелюбовью Тютчева к суровой русской зиме или пасмурному небу Петербурга, об этом не стоило бы говорить; но немил его сердцу был и русский пейзаж, не была согласна его душа и с особым обликом русской природы. Он любил теплое море, горы, снеговые вершины, отраженные в синем зеркале озер, пейзажи Ривьеры, Швейцарии, южной Германии. Отрадно ему было, подняв глаза, созерцать
на краю вершины
Круглообразный светлый храм
или те «недоступные громады», где прозревал он ангельские образы. Увиденный под конец жизни Киев воскресил в нем нерусские впечатления ранних лет и возвратил его поэзии давно породнившийся с ней мотив:
но равнинная, растекшаяся вдаль, бескрайняя Россия пугала ею воображение, и не Волга была ему родной рекою, а скорей уж Рейн или Дунай. В 1843 году, оставив жену в Мюнхене, едет он в Россию, чтобы подготовить к следующему году свой окончательный переезд туда со всей семьей. За Варшавой, пишет он, расстилается грозная скифская равнина, столь пугавшая тебя на моей рельефной карте где она образует такое огромное пятно. В действительности она нисколько не более приятна». Через четыре года, вернувшись на лето за границу, с каким восторгом описывает он вновь посещенные берега Рейна, баденский и гейдельбергский замки, Цюрих, Базель, прогулку в окрестностях Вильдбада, побудившую ею благодарить Бога за то, что на свете есть еще горы, столь утешительные, когда смотришь на них «после долгих трех лет, проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «ma fibre occidental a ete grandement remuee tout се tempsci» (западный нерв моей души был все это время очень растроган). И вновь, шесть лет спустя, вернувшись из очередной заграничной поездки, жалуется он на грустную страну, где нечем заменить горы, кроме облаков, и спрашивает себя, как это «великий поэт, создавший Риги и Женевское озеро, мог подписать своим именем подобные плоскости», de pareilles platitudes.