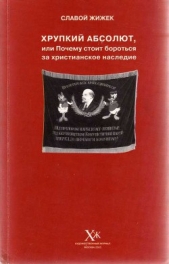Избранное. Логика мифа

Избранное. Логика мифа читать книгу онлайн
Яков Голосовкер (1890–1967) — известный филолог, философ и переводчик. Его отличает мощное тяготение к двум культурным эпохам: Элладе и немецкому романтизму. Именно в них он видел осязаемое воплощение единства разума и воображения. Поиск их нового синтеза предопределил направленность его философского творчества, круг развитых им идей. Мысли Голосовкера о культуре, о природе культуры вписываются в контекст философских исканий в Европе в XX веке. Его мысль о естественном происхождении культуры как способности непосредственно понимать и создавать смыслы, о том, что культура «эмбрионально создана самой природой» представляет интерес для современного исследователя. Философские и теоретические идеи известного русского мыслителя XX века Голосовкера приобретают особое звучание в современном научном дискурсе.
В том вошли следующие работы: «Имагинативный Абсолют», «Достоевский и Кант», «Миф моей жизни» и др., а также статьи А. П. Каждана, Н. И. Конрада, С. О. Шмидта, Е. Б. Рашковского и М. А. Сиверцева о Голосовкере.
Издание работ Якова Голосовкера — известного специалиста по античной литературе, мифологии, писателя, одного из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени — представляется своевременным и необходимым. Перед нами интересная и умная книга, которая будет с радостью воспринята всеми, кому дорога русская культура и культура вообще.
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* Рукопись заканчивается фрагментом под названием «Три психологических этюда». Почти тот же самый текст входит в «Имагинативный абсолют» как раздел 4.1 («Имагинация как внутренний опыт»; «Так называемый мистический треугольник»; анализ стихотворения А. Блока «Художник»). Ввиду этого мы решили не публиковать данный фрагмент в «Имагинативной эстетике». — Прим. ред.
Интересное [86]
1. Пока вопросы
Интересное — как проблема. Но проблема ли это искусства? Прекрасное — категория эстетики. Но категория ли эстетики интересное? Одно ли и то же интересное в литературе и интересное в жизни? Интересный герой романа и интересный человек? Или: интересный роман и интересное событие? То есть одно ли и то же образ имагинативной реальности и бытовой или исторической реальности? Человеку присущ интерес ко всему, следовательно, все может быть интересным и неинтересным. По-видимому, в слово «интересное» включилось нечто слишком обширное и многозначное по объему. Это пока не термин знания. Мы же здесь явно ищем категорию эстетики как знания. Мы хотим отличать «интересное» от «прекрасного», как мы «прекрасное» умеем отличать от «возвышенного» или «возвышенное» от «трагического». Пусть эти термины условны и вовсе нам не так понятны, как это нам кажется. Но мы и не требуем от них математической точности. Они только наводят на смысл и помогают нам в не писанных для искусства законах прозревать и нечто писанное; например, в классической простоте разгадать всю сложность этой простоты и понять, что суть «божьего дара» или гения заключается в том, что эта «сложность простоты» дается поэту-художнику всем комплексом сразу, образуя то целое простоты, которое есть «чудесное» искусства. Но при этом нужен и опыт, и труд, и еще очень многое.
Итак, нам явно хочется провозгласить для искусства две категории: категорию «прекрасного» и категорию «интересного». Но как же быть с «интересным» в жизни? Можем ли мы «интересное» в жизни отбросить, как нечто лежащее вне искусства и вне эстетики? Как нечто, относящееся только к интересу как к влечению.
Но рядом с интересным как влечением, как привнесением интереса от лица существует еще «интересное предмета» (интересное, как заражение кого-то этим «интересным» извне), то есть существует «интересное», как нечто возбуждающее в нас интерес. Такова, например, интересная книга, то есть книга, возбуждающая интерес у читателя (своим «интересным»). И тут же возникает нечто иное: «интересный читатель» — как читатель, который поймет такую книгу. В итоге образовалась целая множественность «интересного».
Но не есть ли «интересное» только одна из игр воображения? Тогда картина иная. Таких картин порядка игр, то есть фантазий может возникнуть немало.
Я сомневался, является ли «интересное» эстетической категорией, пока не наткнулся на его интеллектуально-эстетическое значение, — что отнюдь не исключает участия в этом чувства и воображения. Я убедился в том, как «интересное» интеллектуально захватывает воображение [87] — и что существует и интеллектуальная чувственность, как интеллектуальная возбудимость от чисто интеллектуальных явлений: например, от новой научной гипотезы о происхождении космоса, которая интересна: она захватывает воображение интеллектуально.
Или, когда смыслообраз воображения — в искусстве или философии — возбуждает и заинтересовывает нашу интеллектуальную чувственность.
Есть стихи, которые привлекают нас тем, что они интересны. У них оригинальное сопоставление образов, переключение планов, меткость выражений, лукавая ирония и прочее. Таков часто Гейне. Он действует на наш интеллект, возбуждая его якобы своей эстетической занимательностью, на самом же деле своим трагизмом, под прикрытием сарказма, то есть трагизмом, который при своем крушении превращается в юмор, прибегая к нему, как к единственной защите от нестерпимого страдания. Но эти стихи нас духовно не воспламеняют, не возносят нас так, как нас возносит «прекрасное» романтиков.
Мы бросаем слова: «интеллектуальный захват воображения», «интеллектуальная чувственность». Но существует ли такая интеллектуальность воображения? Не впутываю ли я в воображение рассудок? Или в рассудок чувственность? Не поддаемся ли мы чарам интеллекта того мыслителя, который подчас под творческим натиском воли своего философского оргиазма вмещает в интеллект заодно и рассудок, и отвлеченный разум, и чувство?
Ответ напрашивается, но я оставляю пока все под вопросом. Для мыслителя, если ответ очень напрашивается или предрешен заранее, существует опасность давать ответ до того, как этот ответ до конца понят самим мыслителем. Я доверяю ощупи — интуиции воображения, но не доверяю его опасному спутнику, тому заранее подсказанному выводу, именуемому в логике petitio principii, который все знает еще до завершения познавательного опыта. Это опасный подсказчик. Несомненно одно: интеллектуальная фантазия существует и играет немалую роль в науке и в искусстве: она часто предугадывает истину, как это характерно для мифа.
2. Попытка классификации интересного
Можно ли классифицировать интересное? — Не в большей мере, чем можно классифицировать поцелуи. Классификацию поцелуев создать, конечно, теоретически возможно: например, поцелуй страсти, поцелуй дружбы, поцелуй благоговения, поцелуй как обычай, поцелуй фальшивый, поцелуй между прочим и т. д. Словом, можно перебрать все классы, роды и виды поцелуев от чмоканья — до лобзанья, можно выявить логику поцелуев и даже раскрыть смысл того или иного вида поцелуя. Но ведь вся суть поцелуя заключена только в его практике, в его вкусе — в самом ощущении поцелуя, и того внутреннего чувства, которое побуждает к поцелую. Оно непосредственно без всякой теории, говорит целующимся все, что в данном поцелуе заключается: любовь или обычай? Никакая поцелуйная логика целующимся тут не нужна и не поможет, если не иметь в виду юмор такого предприятия или школу гетер. Если коринфским или римским гетерам нужен был поцелуйный опыт для служения богине любви, то есть для искусства целования, как танцовщице нужен опыт в танце для искусства танцевать, то и такой поцелуйный опыт не нуждается ни в особой поцелуйной логике, ни в поцелуйной теории: он сам научает искусству любовной игры, научает приемам, ремеслу, как надо целовать, то есть как надо овладеть обманной игрой в страсть. Однако секрет этого обмана известен заранее: он быстро обнаружится и весьма жалок по сравнению с поцелуем по инстинкту в момент подлинной страсти и любви.
Любить не учатся: здесь — либо любят, либо не любят. Но любовь имеет свою логику, и именно этой логикой протекает чувство любви. При всем своем психологизме она диалектическая логика. И кто проник в эту диалектическую логику любви, тот может прочесть многие ее тайны в историях живой любви и создать, как писатель, и особенно как писатель-философ, самую глубокую драму любви, как это создали Киркегор и Леонтьев.
Но как тому, кто не умеет любить, нельзя научиться любить, так нельзя научиться быть интересным. Нельзя научиться инстинкту, если инстинкта нет. Нельзя овладеть имагинативной интуицией, если у тебя нет воображения (имагинации), а следовательно, и интуиции. Но вычитать чужую интуицию и изложить ее теоретически возможно. Также возможно научиться: как надо быть интересным, как надо держать себя в обществе или при свидании, чтобы казаться интересным, оригинальным, не таким как все. Многие остроумцы берут с собой шпаргалку с остроумными словечками и замечаниями, чтобы по этой шпаргалке блеснуть в обществе чужим или своим остроумием. Так как можно научиться актерству и обманывать приемами интересности некоторое время даже проницательные умы. Но эти приемы, исходящие от рассудка, становятся очевидными, машина рассудка обнажается и мнимо интересный человек превращается в неинтересного — в банального. Можно даже некоторое время играть в «талант», выступать в роли одаренного человека. Но бездарность скоро вылезает наружу, и игра в талант проваливается. Так и с «интересным». Хотя формальная классификация интересного, так сказать, логика интересного, возможна, но она будет не чем иным, как бесцельной номенклатурой. Знания она не даст. Поэтому я заранее предупреждаю читателя, что мне придется оборвать бесцельную попытку дать классификацию «интересного», как формальную логику интересного. Ее можно дать только как имагинативную логику интересного. Но такая имагинативная логика [88] будет по сути не чем иным, как опытом психологии «интересного», то есть будет психологией, подложенной под логику.