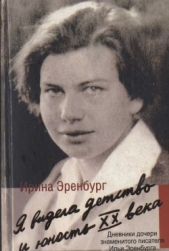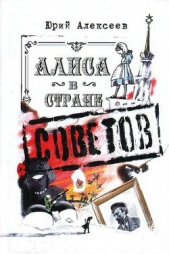Разговоры с зеркалом и Зазеркальем

Разговоры с зеркалом и Зазеркальем читать книгу онлайн
В русской культурной истории было немало женщин, которые сумели высказать и выразить себя в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках или письмах), большая часть которых была опубликована при их жизни или позже. И все же голоса этих женщин остались неуслышанными. Их тексты практически никогда не становились предметом научного интереса сами по себе, а не в качестве исторических или литературных источников для биографий знаменитых мужчин. Цель данной книги — рассмотреть, как женщины первой половины XIX века в своих дневниках, воспоминаниях и письмах пишут о себе, точнее, «пишут себя», как они обсуждают и создают приемлемые для себя модели женственности. Материалом исследования послужили среди других дневники А. Керн, А. Якушкиной, А. Олениной, мемуары Н. Дуровой, автобиография Н. Соханской, переписка Натальи Герцен с А. Герценом, Г. Гервегом и подругами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В рассказе о матери всегда подчеркивается ее образованность, ум, просвещенность, «организаторский талант»:
Добрая мать наша не только одна с помощью старшей сестры нашей занималась воспитанием всех нас, но и домашнее хозяйство, а впоследствии и управление экономией в деревне лежало на ней. Несмотря на это, она находила еще время заниматься сама немецким языком, чтением, разными выписками из книг и с большим усердием лечила, по совету доктора, больных бедных детей (296).
В другом месте говорится, что вместе с жившей в их доме родственницей мать «проводила целые дни <…> в чтении или в игре в шахматы» (291).
Хотя слову «мать» неизменно сопутствует эпитет «добрая», но содержание Воспоминаний позволяет сделать вывод, что мать скорее выступает в роли умной, просвещенной, но строгой и контролирующей наставницы.
О ней говорится с уважением, но без теплого чувства. Описания матери малоэмоциональны, неподробны, «суммарны». Даже сообщение о ее смерти «формульно»: «в 1832 г., после продолжительной болезни. Ангельская душа ее тихо и спокойно отошла к престолу Всевышнего, оставив нас всех в страшном горе» (366).
Стереотип заботливой, доброй, любящей матери, который развивается на поверхности текста, постоянно (и безусловно неосознанно) разрушается в «подтексте».
В тексте можно увидеть намеки на то, что мать как-то подавляет и даже определенным образом «использует» Софью, по крайней мере последняя долгое время вынуждена оставаться с нею в деревне, лишенная возможности устроить свою собственную судьбу. После смерти отца мать моя поручила мне все домашнее хозяйство, вначале это казалось мне несколько трудно, но впоследствии я свыклась и душевно радовалась, что могла чем-либо быть полезной семейству нашему (353).
Возможно, мать и не требовала от нее такой жертвы (и даже старалась для ее развлечения чаще ездить по гостям) — но все же идея неволи, невозможности выбрать свою судьбу, принудительного скучного одиночества довольно ясно соотносится в тексте с темой матери. Недаром сразу после сообщения о смерти матери следует: «через год после смерти незабвенной матери нашей устроилась и моя судьба…» (366 — речь идет о замужестве).
Подобная двойственность, о которой говорилось выше, пропитывает повествование о матери.
Можно сказать, что уже здесь до определенной степени видно то «метание» между приспособлением к существующим социокультурным нормам и бунтом, о котором пишут (опираясь совсем на другие женские автобиографические тексты) Белла Бродски и Целесте Шенк [393].
Франсуаза Лионнет замечает: для того, чтобы вывести на поверхность те элементы, которые погребены под мужскими мифами о самости, женщина-автобиограф «разыгрывает» эти мифы, остраняет их, объективирует. Женский субъект «существует в тексте под обстоятельствами чужой коммуникации, потому что текст — это место ее диалога с традицией, которую она молчаливо намеревается опровергнуть» [394].
Но если через освященный традицией и слишком близкий образ матери Софья Скалон не может позволить себе прямо выразить свои «бунтарские» сомнения и спорит с традицией лишь «молчаливо», то, обращаясь к экзотически чужому материалу, она говорит гораздо более открыто и определенно.
Большая часть четвертой главы Воспоминаний Скалон посвящена рассказу о путешествии по Крыму. Описывая пейзажи, этнографическую экзотику, маленькие дорожные приключения и происшествия, мемуаристка постоянно обращает внимание на «женский вопрос» (если воспользоваться термином, несколькими годами позже вошедшим в активный обиход).
Мы имели довольно времени гулять и <…> изучать нравы и обычаи крымских татар, их дикость и странный быт, в особенности несчастных женщин, запертых в сырых землянках и совершенно одичалых. Видя их в этом жалком положении и желая их сколько-нибудь образумить, мне хотелось взбунтовать их и выпустить на волю. Они были до того дики, что, заметив нас, со страхом подходили к нам и с любопытством ощупывали, как будто видя не таких людей, как они сами. Занятия их состояли в вышивании шелком и золотом, в крашении себе волос и ногтей краской кирпичного цвета и вырывании себе волос на лбу навощенной ниткой, для того, чтобы иметь большие лбы и тем самым нравиться мужьям своим, которые, будучи почти все очень красивы и наслаждаясь полной свободой, летают обыкновенно по полям верхом на славных татарских лошадях, в блестящих нарядах своих (339).
При осмотре Бахчисарайского дворца только терема и гаремы с их решетками, оградами и маленькими садиками у каждого казались мне чем-то грустным и тяжелым (341).
Осмотрев все интересное в Бахчисарае, мы хотели видеть городок евреев-караимов, которые отличаются особенной честностью и красотой <…>, но странно, что женщины у них взаперти и не смеют показываться, как и у татар (342).
Описывая встречавшиеся на обратной дороге татарские погребальные процессии, мемуаристка замечает: «но женщины не присутствовали и на похоронах» (343).
Здесь, на мой взгляд, мы сталкиваемся с описанным Джулией Ватсон процессом объективированной, замещенной самоидентификации [395]. Проблема несвободы, ограниченности женских интересов, подчиненности всей женской жизни цели нравиться мужчине-собственнику и т. п. обсуждается не в собственном дискурсе, но в «чужом». Это они, другие, дикие, живут так.
Однако упорное подчеркивание проблемы, подробность ее обсуждения говорят о важности и актуальности подобных вопросов для собственной жизни и собственного Я. По сравнению с ними, дикими и несвободными, Я — свободная европейская женщина, но я способна отождествлять себя с ними, — вероятно, оттого, что эти проблемы не столь экзотические, как это изложено «на поверхности текста».
Такое обсуждение существенных личных проблем и построение своего Я через образы других женщин, представленных как неблизкие, как своего рода чужие, как мне кажется, очень важно для текста Скалон.
Особенно подробно и пристрастно в Воспоминаниях Скалон рассказаны истории двоюродной сестры и тезки автора — Софьи Николаевны Капнист (Софийки) и Екатерины Армановны Капнист (урожденной графини Делонвиль) — жены Петра Николаевича (родного брата Софийки и двоюродного брата мемуаристки).
Обе они в общем не особенно симпатичны, не особенно близки и не особенно понятны автору воспоминаний; тем интереснее проанализировать, чем вызван столь живой и пристальный интерес Софьи Скалон к их личностям и их жизненным историям.
Ведь если другие оказываются на первом плане, а женский писатель — на втором, то, как предполагает Джулия Ватсон, «это перемещение в тень Другого может быть актом освобождения от принуждений конвенциональных установок женской жизни» [396]. То есть, пытаясь освободить себя от конвенций, женский творческий голос творит свое Я через другого, причем этот другой не становится псевдонимом, маской Я, а сохраняет собственную идентичность. «Метонимия имплицитной для женской автобиографии стратегии другости — представления Я через образы других — на самом деле в меньшей степени замена, замещение (substitution), а в большей степени — построение (constitution) автобиографического Я, где внутренние другие, кажется, принимают самые преувеличенные размеры как очевидный предмет (субъект) жизнеописания» [397].
В случае Скалон на первый взгляд речь не идет об осознанном, открыто заявленном в тексте желании «освободить себя от конвенций», но этот вопрос обсуждается именно «метонимически» — через две ненормальные, «неконвенциональные» женские судьбы.