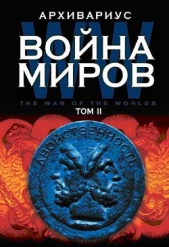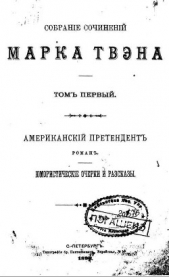Умирание искусства

Умирание искусства читать книгу онлайн
В.Вейдле (1895-1979) - известный писатель и историк культуры первой русской эмиграции. Его высоко ценили не только И.Бунин, Б.Зайцев, В.Ходасевич, но и западные поэты и мыслители - П.Клодель, Э.Ауэрбах и др. Эрудит, блестяще владевший четырьмя языками, он отличался оригинальностью, остротой и резкостью своих суждений об искусстве, литературе, обществе.
В настоящем сборнике отечественный читатель познакомится с наиболее значительными сочинениями В.Вейдле: «Умирание искусства» (1937), «Рим: Из бесед о городах Италии», статьями разных лет о русской и западной культуре XIX - XX вв.
Для тех, кто интересуется вопросами эстетики, философии и культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Петр был первым технократом новых времен, первообразом того, что один историк (Тойнби) предложил назвать Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus. Вольтер ценил в нем революционера, Дефо — державного Робинзона, плотничающего посреди русской пустыни, современный «прогрессист» мог бы ценить в нем своего предшественника, для которого культура уже сводилась целиком к технической цивилизации. Россию он переделывал во имя здравого смысла и очередных практических нужд, не спрашивая ее мнения, не считаясь с ее чувствами, разрушая в ее укладе не только то, что казалось вредным, но и то, что казалось недостаточно полезным. Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения. На Западе он не видел ничего, кроме еще неясных очертаний будущей Америки, но, толкнув Россию к Западу, он все же исполнил ее судьбу и сделал то, что как раз и требовалось сделать. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней — весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской империи. Он парализовал на два века деятельность русской церкви, он окончательно отрезал от народного быта культурный быт, он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни. Дело Петра переросло его замыслы, и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более сложной и богатой, чем та, которую он так свирепо ей навязывал.
Двояким образом, однако, вся ее дальнейшая судьба была отмечена печатью его гения: он хотел от нее творчества, хотя бы и только технического и материального, и она ответила ему творчеством в самом широком смысле слова; он представлял себе государство по старой русской привычке, получившей поддержку в рационалистическом абсолютизме современного ему Запада, как нечто внеположное стране, почти как смирительную рубашку на сумасшедшем, который иначе стал бы буйствовать, и страна ответила ему еще обострившимся против прежнего взаимным отчуждением государства и народа. В конечном счете мы обязаны Петру и всем тем великим, что было создано петербургской Россией, и той катастрофой, что положила ей конец.
Царь-плотник, к несчастью для нас, был в очень малой мере царем-садовником. Рощи лиственниц он любил сажать, но Петербург на сваях вбил в болото; и все же одно насаждение его — русское дворянство — удалось ему едва ли не лучше, чем все то, что он для России смастерил. Новый правящий слой отличался от старого своей многочисленностью и открытостью, полным отсутствием кастовой замкнутости (по крайней мере, в эпоху своего расцвета), а главное тем, что он был одновременно и культурным слоем, чего нельзя сказать ни о служилом сословии времен царя Алексея, ни о чиновничестве и знати времен Александра III и Николая II, ни, еще того менее, о полуграмотных партийцах, ныне управляющих Российской империей. Дворянство и создало культуру петербургской России, причем важно не то, что Ломоносов не был дворянином, а то, что в дворянской культуре нашлось место и для Ломоносова. Помещик, к тому же, был естественно ближе к крестьянину, чем позднейший городской интеллигент: в знании народа, еще никакой разночинец не превзошел Пушкина, Толстого или Бунина; трагедия тут заключалась не в кровной и стихийной розни — в этой области как раз была общность, а не рознь; она заключалась в непримиренности культурных традиций, во все той же несогласованности культуры горизонтальной с вертикальной, несогласованности, которую Петр не исправил, а только углубил, в неизменной безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, что они творят. До тех пор, однако, пока все это так грозно не обернулось тем безмолвием народа в день четырнадцатого декабря, что было страшней всех выстрелов на сенатской площади, до тех пор, да еще и много лет спустя, русская культура, созданная дворянством, жила такой полной и счастливой жизнью, какой больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура в России не жила. Культура эта была национальной, хотя русский народ в целом еще не превратился в нацию. Ее величайшим созданием был литературный язык, благодаря образованию которого новая русская литература попала сразу в совсем иное положение по сравнению с литературой Древней Руси. Другие искусства, напротив, не достигли той степени стилистической цельности, которой они достигали по временам в России допетровской, что объясняется отчасти общими изменениями, постигшими все европейское художественное творчество, а отчасти особыми свойствами дворянской культуры, тяготевшей в области пластических искусств скорее к широкой декоративной прелести, чем к насыщенности их индивидуальной формы. Однако и тут были у нас обрусевшие или русские строители Петербурга, был Шубин и Козловский, Левицкий и Сильвестр Щедрин, был гениальный живописец — Александр Иванов.
От восемнадцатого к девятнадцатому веку все углублялась и росла вся наша духовная жизнь: современниками Пушкина были Серафим Саровский и Сперанский; все углублялась и росла — пока не случилась трещинка.
К середине тридцатых годов трещина обнаружилась вполне. Она сказалась в чаадаевских сомнениях о смысле русской истории, в славянофильском восстании Москвы против Петербурга, в пониженной оценке Пушкина, а значит и того, на чем был построен пушкинский мир, во всеобщем потускнении символов императорской России. Как передает Сергей Соловьев, Блок в 1915 году «развивал мысль о пушкинско-грибоедовской культуре, которая, по его мнению, была уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции». До него Розанов писал о приходе разночинца, разрушившего «дворянскую культуру от Державина до Пушкина». Конечно, суждения эти упрощают дело, однако они верны в том смысле, что кризис тридцатых годов совпал с рождением интеллигенции, и не только совпал, но был с ним глубоко связан, интеллигенции же предстояло в себя включить значительное число «разночинцев», которые через двадцать или тридцать лет уже стали вытеснять из нее дворян. Перемена, происшедшая таким образом в составе русского культурного слоя, имела огромное общегосударственное значение, не потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворяне были одновременно и культурным, и правящим слоем, а интеллигенция стала лишь частью культурного слоя и с самого начала противопоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то гибельное для России расщепление культурных сил, с точки зрения которого прав оказывается умный, хоть и давно забытый наблюдатель русской жизни Р. А. Фадеев, писавший в семидесятых годах: «Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не удавшийся в Европе и шедший вразрез всему содержанию нашей послепетровской истории: окунулись в полную бессословность, растворили в массе свое, еще недостаточно связное, еще не созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самодеятельности для того, чтобы стать на ноги — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося всеобщего нравственного разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды».
Ошибка Фадеева только в том, что он пользуется юридическим понятием сословия, а не социологическим — слоя или класса. С середины века единого культурного слоя в России действительно больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние чем дальше, тем больше, становились подлинными носителями русской культуры, но к русскому государству не имели никакого отношения — ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно аристократического и чиновничьего мира это, кажется, ясно всем, но это столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин были высококультурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту; о культурном уровне которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследования им одним основной интеллигентской черты: исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть политических идей важней религии, важней культуры, важней всего прочего содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим человека, не разделявшего его политических идей, и человека, безразличного к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, Лескова. К духовной свободе относилась враждебно как большая часть бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать послереволюционную правящую верхушку.