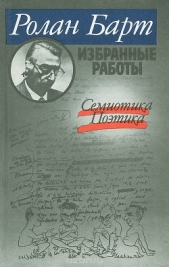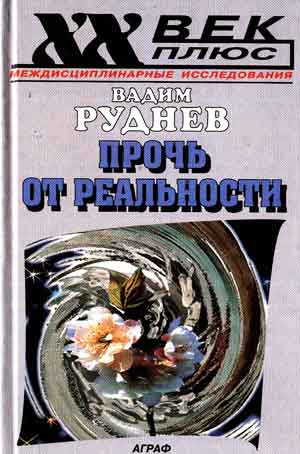Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы
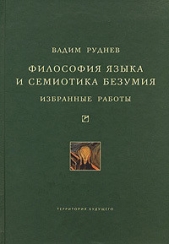
Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы читать книгу онлайн
Вадим Руднев – доктор филологических наук, филолог, философ и психолог. Автор 15 книг, среди которых «Энциклопедический словарь культуры XX века» (переиздавался трижды), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста» (2000), «Характеры и расстройства личности» (2002), «Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни» (2002), «Словарь безумия» (2005), «Диалог с безумием» (2005).
Настоящая книга представляет собой монографию по психосемиотике – междисциплинарной науке, включающей в себя психоанализ, аналитическую философию, теоретическую поэтику, семиотику, мотивный анализ – которая разрабатывается В. Рудневым на протяжении последнего десятилетия. Суть авторского подхода состоит в философском анализе таких психических расстройств, как депрессия, невроз навязчивых состояний, паранойя, шизофрения и их составляющих: педантизма и магии, бреда преследования и величия, галлюцинаций. Своеобразие его заключается в том, что в каждом психическом расстройстве автор видит некую креативную силу, которая позволяет человеку, выпавшему из повседневной нормы, создавать совершенные произведения искусства и совершать гениальные открытия. В частности, в книге анализируются художественные произведения, написанные под влиянием той или иной психической болезни. С присущей ему провокативностью автор заявляет, что болен не человек, а текст.
Книга будет интересна психологам, философам, культурологам, филологам – всем, кто интересуется загадками человеческого сознания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Психоз – отказ от секса в пользу смерти, которая есть навязчивое повторение. («Купреянов и Наташа» Введенского – сначала они навязчиво раздеваются, потом так же навязчиво одеваются – «И дремлет полумертвый червь»). Психотику секс не нужен. Психоз – «психическая смерть» [Тэхкэ, 2001]. Однако и секс – это не только жизнь, но и смерть, как показала еще Сабина Шпильрейн в 1911 году [Шпильрейн, 1995]. Мы привыкли повторять за Фрейдом, что смерть связана с навязчивым повторением, но при этом забываем, что все-таки для христианского сознания смерть это нечто, что случается один раз. Но это лишь в линейном эсхатологическом мышлении (подробней см. [Руднев, 1986]). В циклическом, более архаическом сознании (не обязательно в буддийском, где смерть и рождение повторяются на сознательном уровне – в круге сансары, но и вполне христианском) повторение смерти-возрождения вполне актуально.
«Единожды умер Христос», – восклицал Августин; но каждый год в неизменной череде Пасха сменяла Страстную Пятницу. Космическое круговращение времен года было поставлено рядом с неповторимостью событий «священной истории». <…> Снова человек мог ощущать себя внутри замкнутого священного круга, а не только на конечном узком пути, имеющем цель [Аверинцев, 1977: 96].
Наконец также очень важно, что смерть это не только навязчивое повторение, но смерть связана с обсессией в анальном смысле. Мертвец это десексуализированный, но в то же время анальный объект. От него идет запах. Он воспринимается в круге идей материально телесного низа; его закапывают в могилу, чтобы он не смердел. Ср. в «Волшебной горе» Томаса Манна рассуждение от трупах гофрата Беренса, где он говорит, что главное, чтобы труп «хорошенько высмердился»; в том же романе и сам герой говорит об образе любви как смерти (в конце первого тома в сцене объяснения с Клавдией Шоша она именуется образом любви, «обреченным могильной анатомии»).
Мы много внимания уделили клинике. Роль обсессии при психозе стала немного яснее. В случае, тяготеющем к нормальному или квазинормальному, как у Человека-Волка, обсессия является предохранительным клапаном. При большом психозе обсессия вырождается в персеверацию, навязчивое, но уже на поверхности совершенно бессмысленное повторение одних и тех же движений или словесных формул. Например, человек повторяет одно и то же движение, как будто кого-то бьет под дых. Но он может совсем остановиться и застыть – это кататоническое решение. Оно тоже имеет защитный характер, хотя кажется, что защищаться уже не от чего. Но всякое безумие – защита от еще большего безумия, в частности, от безумного страдания. Таких решений может быть несколько, в сущности, три, соответственно трем видам шизофрении. Кататоническая обездвиженность или наоборот возбуждение (при возбуждении будет тоже все повторяться). Гебефреническая дурашливость. Она тоже может иметь характер обсессивного повторения. Например, на все попытки диалога гебефреник может отвечать одной и той же фразой: «А пошли вы все в ж…». Самая сложная форма шизофренической защиты – третья бредово-галлюцинаторная, или параноидная. В ней, как мы говорили, при кристаллизации бреда обсессия начинает играть роль формального начала, не дает бреду рассыпаться. Чтобы он не распался, он должен повторяться. В случае бреда величия это очевидно. Повторяется одна и та же ключевая фраза, соответствующая экстраективной идентификации. «Я – Христос». Она должна повторятся, потому что нечем больше удержать в себе самую суть бреда величия. Пациент не в состоянии подкрепить свои слова поступками. Например, если он Христос, самое радикальное, на что он способен, это стать в позе Христа на кресте, как будто его распяли, но это будет решение в сторону кататонии. Но парафреникмегаломан не в состоянии реально творить чудеса – превращать воду в вино, воскрешать мертвых, проповедовать – если его бред в острой форме, но если его бред кристаллизовался, он может стать в состоянии проповедовать, но тогда в его проповеди будет господствовать навязчивое повторение одних и тех же формул. В случае бреда преследования все гораздо сложнее. Некоторые пациенты вступают в диалог с преследователями (см., например, классическую книгу Виктора Кандинского «О псевдогаллюцинациях» 1864 года [Кандинский, 2002]). Если бредящий религиозен, то преследователь может выступать в идее дьявольской силы и тогда лучшее от нее средство – это молитва: просто не замечать галлюцинаторных наущений дьявола и только пуще молиться. Так делали затворники святые, когда их посещал в скиту дьявол, что было с клинической точки не что иное, как состояние экстраекции в обстановке сенсорной депривации, когда часто возникают галлюцинации. Навязчиво повторять молитвы против дьявольских сил может и не помочь избавиться он них совсем, но, во всяком случае, как-то продержаться на поверхности. Дьявол часто может выступать в образе женщины, так как мир преследуемого параноика гомосексуален, как показал еще Фрейд на примере случая Шребера, женщина будет выступать как чужеродное начало. Возможно, конечно, радикальное решение в духе толстовского отца Сергия – символическая самокастрация. Бывают случаи и реального самооскопления. Паранойяльный гомосексуализм в принципе сродни обсессии. Обсессия – это мужской мир, он и традиционно считается мужским в противоположность женскому миру истерии, но он мужской по сути, так как гомосексуальный акт тесно связан с анальностью, анальность и мужской гомосексуализм – это родственные вещи. Поэтому бред преследования, как правило, является однополым: либо мужским, либо женским. Это нетипично, если женщину преследует мужчина, а мужчину женщина. Как правило, мужчину преследует мужчина, отец, дьявол, Бог, а женщину – женщина – мать, Божья матерь, царица Изида. Преследователь может быть не определен по полу, как, например, у шизофренической пациентки Вильгельма Райха из последней главы его книги «Анализ характера» 1945 года. Там пациентку преследовали безликие дьявольские силы [Райх, 2000].
Так или иначе, обсессия привносит в психоз порядок, спасает психоз, приспосабливает его к реальности. Это можно продемонстрировать на примере додекафонии, одного из самых обсессивных и психотичных направлений музыки XX века. История развития музыкального языка конца xix в. – «путь к новой музыке», как охарактеризовал его Антон Веберн [Веберн, 1971], – был драматичен и тернист. Как всегда в искусстве, какие-то системы устаревают и на их место приходят новые. В данном случае на протяжении второй половины xix века постепенно устаревала привычная нам по музыке Моцарта, Бетховена и Шуберта так называемая диатоническая система, то есть система противопоставления мажора и минора. Суть этой системы заключается в том, что из 12 звуков, которые различает европейское ухо (так называемый темперированный строй), можно брать только семь и на их основе строить композицию. Семь звуков образовывали тональность. Например, простейшая тональность до мажор использует всем известную гамму: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Наглядно – эта тональность использует только белые клавиши на рояле. Тональность до минор отличается тем, что вместо ми появляется ми-бемоль. То есть в тональности до минор уже нельзя употреблять простое ми, за исключением так называемых модуляций, то есть переходов в родственную тональность, отличающуюся от исходной понижением или повышением на полтона. Постепенно к концу XIX века модуляции стали все более смелыми, композиторы, по выражению Веберна, «стали позволять себе слишком много». И вот контраст между мажором и минором постепенно стал сходить на нет. Это начинается у Шопена, уже отчетливо видно у Брамса, на этом построена музыка Густава Малера и композиторов-импрессионистов – Дебюсси, Равеля, Дюка . К началу хх века композиторы-нововенцы, экспериментировавшие с музыкальной формой, зашли в тупик. Получилось, что можно сочинять музыку, используя все двенадцать тонов: это был хаос – мучительный период атональности. Если гармонию XIX века можно сравнить с психологической синтонностью, то дальнейшее «заболевание» музыки привело ее к «психозу», отрыву от реальности. Стало можно употреблять все звуки – тем самым музыка вышла из границ дозволенного и недозволенного, погрузилась в хаос музыкального Ид, забывая про Суперэго, про нормы. Таким искусственным, достаточно суровым музыкальным Суперэго стала обсессивная система Шенберга.