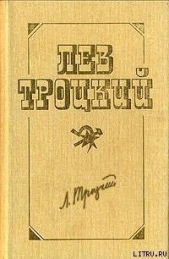Топографии популярной культуры

Топографии популярной культуры читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ось зла Саруман – Саурон в кинотрилогии помогает устранить сложность и нюансы повествования. Хотя критики Толкина часто ставили ему в вину упрощение морали сказки, любое тщательное прочтение текста обнаруживает ошибочность мышления в терминах исключительно добра и зла. Не только многие, так сказать, «персонажи зла» (Голлум, Саруман и даже сам Саурон) намного интереснее и сложнее в изображении Толкина, но и, так сказать, «персонажи добра» (Галадриэль, Арагон и Гэндальф) тоже интересны тем, что делают ошибки и испытывают искушение или сомнения. Из «Сильмариллиона» читатель узнает, что решение Галадриэли отправиться в Средиземье было весьма похоже на решение Саурона остаться там. В то время как Галадриэль «мечтала увидеть обширные, неохраняемые земли и править там королевством по собственной воле» (Tolkien, Silmarillion: 90), Саурон «остается в Средиземье <…> начиная с благих побуждений – преобразования и восстановления разоренного Средиземья, “о котором боги позабыли”» (Tolkien 2000: 151). Причиной требующего нравственных усилий отказа Галадриэль взять кольцо, которое ей предлагает Фродо, является ее абсолютное понимание, чего именно она желает, так что взгляд на Галадриэль как на всегда и изначально «хороший» персонаж на самом деле принижает героизм ее противостояния искушению [66]. Толкин отмечает, что «страшное зло может родиться и рождается от вроде бы доброго корня, из желания облагодетельствовать мир и других» (Tolkien 2000: 146). Такую философию довольно трудно разглядеть в прочтении характеров и сюжетных линий в киноверсии, которую предлагает нам Джексон. Как это происходит на протяжении всей кинотрилогии, сложные отношения интереснейших характеров сведены к ходячим пародиям из в высшей степени примитивных морализаторских пьесок, однако ущерб, нанесенный повествованию, чуть смягчается (или маскируется) откровенной театральностью.
Да и само кольцо в книге и в фильме показано совершенно по-разному. В киноверсии Кольцу Всевластия отводится гораздо более заметная роль, чем в романе. Действительно, создатели фильмов зашли настолько далеко, что заставили кольцо говорить, пусть и едва различимым шепотом, но все же это предполагает некоторую стоящую за этим личность (может быть, того же Саурона). Даже носить кольцо в фильме становится намного опаснее, чем в романе, не считая эпизода с Сэмом в Кирит Унголе. Однако сам Толкин выступал против того, чтобы наделять кольцо слишком большой властью и могуществом. Как он пояснял, идея персонажа, сила и могущество которого связываются с неким предметом или вкладываются в него, – слишком привычный троп для волшебной сказки. В 1958 году Толкин так писал в одном из своих писем:
Нельзя требовать от Кольца слишком многого, потому что, конечно же, это элемент мифа, даже если мир преданий мыслится в более-менее исторических терминах. Кольцо Саурона – лишь одна из многих мифологических трактовок вкладывания своей жизни или силы в некий внешний объект, который возможно захватить или уничтожить, с губительными последствиями для вложившего. Если бы я стал объяснять этот миф или хотя бы Кольцо Саурона «с философской точки зрения», я бы сказал, что это мифологический способ представить истину о том, что могущество (или, вероятно, скорее потенциальные возможности), если его предстоит использовать и добиться результатов, должно воплотиться во внешнюю форму, и тогда оно в большей или меньшей степени словно бы уходит из-под прямого контроля. Тот, кто желает осуществлять «власть», должен иметь подданных, которые ему не тождественны. Но он зависит от них (Tolkien 2000: 279).
Это разъяснение помогает демистифицировать «магию» Кольца Всевластия, которая теперь может быть понята как метоним или синоним для определенного типа традиционного механизма политической или военной власти, таких как регулярная армия или репрессивный государственный аппарат. Использование «мифологического» устройства в совершенно ином «историческом» повествовании (это термины Толкина, и они отражают в большей степени способ презентации, нежели конкретные мифологические или исторические отсылки) также усиливает образ Саурона, что создатели кинотрилогии решили игнорировать. То есть Саурон – это обладающий властью лидер, может, даже диктатор, который правит страной с богатыми ресурсами и командует несметными полками. Но, как это бывает с другими диктаторами, его реальная власть, если ее приходится осуществлять, лежит вне пределов его прямого контроля и в форме тех самых орков, людей и других созданий, которые действуют от его имени. Это также объясняет, почему Саурон может принимать физический, человекоподобный вид, но при этом никогда не покидает пределы Барад-дура. Как Гитлер, Сталин, Черчилль и Рузвельт, руководители стран и командующие армиями во время войны редко появляются на поле битвы.
Следовательно, истинный заговор кольца вовсе не тот, который, как предлагает нам кинотрилогия, существует между Сауроном и Саруманом, и не заговор братства кольца по уничтожению этого артефакта. Заговор, который предлагают создатели фильма, – в том, чтобы изменить Средиземье в соответствии с упрощенным взглядом на мир, в котором неисправимые злые силы угрожают неудержимо хорошим персонажам. Хотя роман Толкина усложняет такую простую схему, его киноверсия выходит за пределы разумного в упрощении «карты» Средиземья.
Дуглас Келлнер считает, что трилогия «Властелин колец» в аллегорическом смысле служит идеям фашизма: он предлагает уход от сложного и опасного мирового порядка в XXI веке, но этот мнимый побег активно продвигает консервативную милитаристскую и политическую повестку дня. Как поясняет Келлнер,
кинотрилогия «Властелин колец» стала наглядным примером глобальной машины по производству фэнтези, ее творческая группа представляет весь (особенно) англоговорящий мир. <…> Мировая популярность фильмов «Властелина колец» была вызвана глубокой потребностью в фэнтези, в побеге (эскапизме) в альтернативные миры и в отвлечении от бурных и трагических конфликтов современной эпохи. Не в меньшей степени эта популярность связана и с вовлечением в процесс технологически блестящей машины кинематографического эпоса, создающей отлично выстроенную Вселенную фэнтези. Однако этот «побег» ведет именно в сети консервативной идеологии, которая стала основным источником современного мирового хаоса (Kellner 2006: 20).
Мне думается, что интерпретация Келлнера несколько неубедительна, тяжеловесна и порой ошибочна, однако, принимая во внимание печальную прозорливость анонса фильма, появившегося в ситуации войн с терроризмом после 11 сентября 2001 года (а также возвращение зла как допустимой категории для обсуждения вопросов государственной политики, с необдуманным восхвалением военной силы, с демонизацией по большей части неизвестных врагов, а также тех, кто не готов безоговорочно поддерживать военные действия, не говоря уже о невероятно эмоциональных расовом, культурном и религиозном подтекстах подобной политической риторики), «Властелин колец», несомненно, создал образность, удовлетворяющую требованиям некоего определенного неоконсервативного дискурса.
И все же определенная часть аргументации Келлнера черпает свою силу из старого отрицания фэнтези как такового, определяем ли мы его как литературный жанр или тип дискурса, как эскапистский в лучшем случае, реакционный в более плохом и совершенно недостойный никакого серьезного критического разбора в наихудшем варианте. В заключительной части своей статьи я хотел бы обсудить ценность литературы фэнтези, в которой мы видим не только попытку создания альтернативных универсумов, но также и критику статус-кво в этом таком реальном мире.
Томас Шиппи утверждал, что «доминирующей литературной формой в ХХ веке была фантастика». Хотя большинство из нас, по-видимому, отдают должное тому, что тип фэнтези, представленный par excellence в романах Толкина, является современным феноменом, этот жанр или литературная форма, как правило, рассматривается по-разному: как консервативная или реакционная, ностальгическая или неосредневековая и так далее. В одной из своих работ я высказал предположение, что форма фантастики является необходимым элементом литературной картографии – процесса, посредством которого писатели и читатели создают образную карту их мира. Например, я полагаю, что утопическое воображение в век глобализации не столько связано с открытием затерянного где-то в мире острова или идеального государства будущего, сколько предполагает образную проекцию самого мира. Утопия предлагает карту, в которой могут быть распознаны другие пространства системы. В этих мирах hic sunt dracones («Здесь обитают драконы»), и утопические пространства появляются в формах того, что Герберт Маркузе называл «скандальным фактом качественного различия», в радикальной несхожести, которая устанавливает глубочайший разлом в статус-кво.