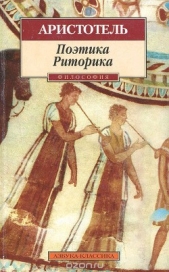Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Другой пример взят из проповеди Амфилохия Кесарий-ского:
«О, божественных Евангелий богатство несказуемое! О, премудрых таинств ведение неописуемое! О, божественных даров неизреченных сокровище неизъяснимое! О, промыс-лительного человеколюбия действие неисчислимое!» 8
Вслед за своими греческими наставниками стали так писать и книжники Древней Руси. «Виждь церкви цвету-щи, — обращается митрополит Иларион к умершему князю Владимиру, — виждь христианство растуще, виждь град иконами святыих освещаем, блистающеся, и тимианом обухаем, и хвалами и божественами пении святыими оглашаем». Кирилл Туровский рисует картину весны: «Бурнии ветри, тихо повевающе, плоды гобзують, и земля, семена питающе, зеленую траву ражает» 10. В похвалу князю Дмитрию Донскому говорится: «Царский убо сан держаше, ан-гелскы живяше, постом и молитвою, и по вся нощи стояше, сна же токмо мало приимаше, и паки по мале часу на молитву встаяше, и подобу благу творяше, всегда, в берньнем телеси бесплотных житие свершаше…» ".Но кто посрамил бы по части гомеотелевтов и самого Горгия, так это, конечно, Епифаний Премудрый:
«…Да и аз многогрешный и неразумный, последуя сло-весем похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словесе похваление събираа, и приобретав, и приплетаа, паки глаголя: что еще тя нареку, вожа заблудшим, обретателя погибшим, наставника прельщенным, руководителя умом ослепленным, чистителя оскверненным, взыскателя расточенным, стража ратным, утешителя печальным, кормителя алчющим, подателя требующим, наказателя несмысленным, помощника обидимым, молитвенника тепла, ходатаа верна, поганым спасителя, бесом проклинателя, кумиром потребителя, идолом попирателя, Богу служителя, мудрости рачителя, философии любителя, целомудрия делателя, правде творителя, книгам сказателя, грамоте перьмстей списателя?» 12
Этих примеров достаточно, чтобы увидеть две вещи.
Во-первых, за два тысячелетия, разделяющих эпоху первых античных софистов, когда жил Горгий, и пору «второго южнославянского влияния» 13, когда жил русский агиограф Епифаний, поэтика риторических созвучий нимало не изменилась в своем принципе, в своем существе. Ее древняя импозантность оставалась все той же на протяжении всей античности и всего средневековья, пока не наступило новое время и ей не пришлось нежданно опуститься до уровня балаганных прибауток и элоквенции капитана Лебядкина.
Во-вторых, поэтика эта отличается от поэтики привычной для нас рифмы вовсе не одним тем, что регулирует созвучия не в стихах, а, напротив, в прозе. Самый характер этих созвучий — другой. Мы привыкли к тому, что рифмы бывают не только грамматически однородными, но и грамматически разнородными, и что второе ничуть не хуже, а может быть, и лучше. Мы привыкли к тому, что явное, лежащее на поверхности смысловое сопряжение (соединение или противоположение) рифмующихся слов не только не обязательно, но почти предосудительно. Рифмы «радость» — «младость», «страданья» — «рыданья», «любовь»— «кровь», «камень» — «пламень», «верный» — «лицемерный» именно потому «банальны» и, стало быть нехороши, что логическая близость между молодостью и способностью радоваться, между страданиями и рыданиями, между любовью и кровью очевидна для каждого, как и логическая противоположность между верностью и лицемерием, а также между свойствами камня (холод, неподвижность) и свойствами пламени (жар, трепетность). Эти слова, так сказать, обручены друг другу коллективной психологией языка уже заранее и потому не могут повстречаться в рифме внезапно и неожиданно, как незнакомцы. Как правило, поэзия нового времени предпочитает возможность зарифмовать существительное с глаголом или прилагательное с деепричастием однообразию суффиксально-флексивной рифмы, один из видов которой — осуждавшаяся во времена Пушкина «глагольная» рифма 14. И еще мы привыкли к тому, что рифма ориентирована в конечном счете не на глаз, а на ухо, по каковой причине созвучие последнего ударного слога для нее необходимо, а тождество заударного окончания излишне; рифмовать «уколы» и «веселой» можно, а, например, «уколы» и «пределы», «веселой» и «милой» — не принято (это называется диссонансом). В новоевропейской поэтике рифмы преобладает установка на чувственную иллюзию, примерно так, как в новоевропейской живописи от Тициана и Франса Хальса до импрессионистов, достигающей своего эффекта слиянием на известной дистанции «неточных» мазков.
Внутренний принцип античного и средневекового го-меотелевта отличается от этой поэтики едва ли не так, как резко прочерченный силуэт аттической вазы или византийской иконы отличается от «сочной» фактуры, возможной только в живописи маслом. Гомеотелевт обращается не только к уху, даже не только к глазу; он обращается к рассудку. Фонетическое сходство слов может быть само по себе не так велико; созвучие «заблудшим» — «погибшим» недостаточно для рифмы, между тем как оно вполне достаточно для правильного гомеотелевта. Но дело в том, что это фонетическое сходство не самоценно, а служебно; оно — всего лишь знак словесной геральдики, выделяющий привилегированные слова, удостоверяющий их логико-синтаксическую параллельность и подчеркивающий их смысловое сближение или противоположение. «Заблудшим» и «погибшим» — это идентичные грамматические формы; это параллельные члены предложения; наконец, это почти синонимы. То же самое можно сказать о словах «на украшение» и «на прославление» у Горгия, об эпитетах «несказуемое», «неописуемое», «неизъяснимое» у Амфилохия, о бесконечной череде глаголов «поминается», «возвещается», «прославляется» (всего шестнадцать) у Прокла. Причастия «освещаем», «обухаем», «оглашаем» у Илариона, разумеется, не синонимичны, но они рисуют логически параллельные действия в трех планах трех чувств: зрения, обоняния и слуха. Напротив, «спором» и «миром» у Горгия, «спасителя» и «проклинателя», «попирателя» и «служителя» у Епифа-ния — это антонимы, сопряженные по противоположности. В новой русской поэзии так поступал иногда Блок, рифмовавший «по смыслу» и сопрягавший «солнца» и «сердца», «за мысом» и «над морем», «теплятся» и «крестятся» (по смежности), «забытьи» и «памяти» (по противоположности). Но то, что для Блока было индивидуальной особенностью его манеры и отступлением от нормы, для античного ритора или средневекового книжника было нормой.
Таково отличие древнего гомеотелевта от привычного для нас типа стиховой рифмы. Но это не значит, что именно в перечисленных свойствах лежит его отличие от всякой стиховой рифмы вообще, от самого понятия стиховой рифмы. Вовсе нет: на первых порах своего существования стиховая рифма, уже самоопределившись в качестве таковой, перенимает облик гомеотелевта. Русский читатель может убедиться в этом хотя бы на примере русской силлабической поэзии XVII в. Симеон Полоцкий рифмует «жити» и «быти», «родителю» и «благодетелю», «плененный» и «зам-кненный», «управил» и «наставил», «старости» и «юности». Димитрий Ростовский рифмует «камо» и «тамо», «прий-мет» и «обыймет», «осенити» и «хранити», «снийдет» и «возыйдет», «разумно» и «безумно», «мирен» и «смирен»; сквозь его «Комедию на Успение Богородицы» проходит много раз повторенная рифма «невеста» — «чиста», сопрягающая два ключевых понятия этой русской мистерии. Рифма подчеркивает синтаксический параллелизм:
Несть греха, его же аз не сотворих блудный, Несть скверны, ея же аз не сотворих студный… '5
Здесь нет, казалось бы, ничего, что смогло бы озадачить Горгия или Прокла Константинопольского. Перед нами такое же сопряжение грамматически однородных слов, прозрачно сближаемых или противопоставляемых по логическим основаниям, какое мы наблюдали в практике античной и средневековой прозы. Такая рифма по своей фактуре ничем не отличается от гомеотелевтов; и все же это не го-меотелевты — это стиховая рифма. Критерий один, но он решает все, и критерий этот— регулярность. В прозе можно вовсе обойтись без созвучий, можно зарифмовать два слова, можно добавить к ним третье, четвертое, пятое, пока ритору не надоест; Прокл Константинопольский, как мы видели, выстраивает ряд из шестнадцати созвучий, но их с таким же успехом могло быть пятнадцать или семнадцать, а если бы именно в этом месте Прокловой проповеди вовсе не было гомеотелевтов, никакой закон не был бы нарушен. Когда Епифаний Премудрый нанизывает одно за другим слова: «утешителя», «кормителя», «подателя», «на-казателя», «спасителя» и так далее, — вкус и чувство меры могут сказать ему «остановись!», но никакое правило ему этого не скажет. Стиховая рифма — обязательна, гомеоте-левты — произвольны; применительно к первой можно говорить о системе и необходимости, применительно ко вторым — только о тенденции и о возможности. Поэтому парная рифма Симеона Полоцкого и Дмитрия Ростовского, до неразличимости похожая на созвучия риторической прозы, по сути своей отделена от них пропастью; чтобы понять это, достаточно помнить, что она — парная.