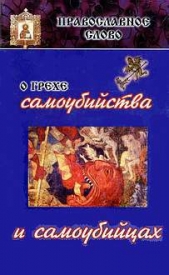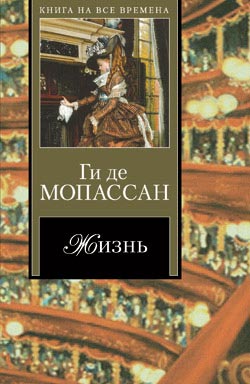Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали

Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали читать книгу онлайн
Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы. И в то же время — судьба, общая для многих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Маяковского настроение вскоре переменилось. «Снеговой уродине» отныне противостоял не вымечтанный поэтический рай, а вселенский «разлив второго потопа», «Третий Интернационал», к которому поэт обращался со словом, специально придуманным для такого случая и такого размаха: «Вселенься!..»
Обреченность резко сменилась агрессивностью (как бывает с нетвердой психикой переломного возраста):
«Не так, товарищ! — слабо взывал Блок, сам попробовавший, разумеется, не воспеть, но оправдать и принять разор и позор „снеговой уродины“. — Не меньше, чем вы, я ненавижу Зимний дворец и музеи. Но…»
Да какое там «но»? Родной отец, сжигаемый ради того, чтобы иллюминировать дорогу в грядущее, — образ впечатляющий, но выдающий чрезмерное старание, натугу, истерику интеллигента, старающегося не отстать от решительных прототипов «двенадцати». Хотя, впрочем, в истерике и натуге опережающего их, невыдуманных, реальных, прагматически занятых экспроприацией экспроприаторов.
Опережающего — опасно. Поэт, додумавшийся (не дочувствовавшийся — чувство его как раз бы остановило) до такой крайности нарушения и разрушения человеческих норм, сам торопил свою гибель.
Больше того. Косвенно, исподволь, издалека он готовил и свою третью смерть.
«В которой он неповинен»? Как сказать. Начав разрушение, не предвидишь его абсурдных, гротескных последствий, но это не значит, что ты к ним совсем непричастен…
Между прочим, одна из самых счастливых (в глубоко эстетическом смысле слова) посмертных судеб — это судьба расстрелянного Гумилева, наглухо запрещенного советской цензурой. Запрещенного даже для упоминаний — кроме самых ругательных, вроде: «Он был поэтом агрессивного капитализма, перерастающего в империализм».
Не говоря о выжившей, к счастью, Ахматовой, даже убитого Мандельштама начали помаленьку печатать с приходом «оттепели», — как ни трудно убийцам прощать тех, чьей кровью они замарали руки. Один Гумилев не подлежал ни реабилитации, ни даже амнистии.
(Впрочем, поправка. Еще — Владислав Ходасевич, умерший собственной смертью за рубежом, глухой запрет на которого был не то чтобы непонятным, но необъяснимо чрезмерным. У меня самого в двух моих книгах цензура снимала упоминание его имени — даже когда я полемизировал с его пушкиноведческим разбором «Русалки», наивным до изумления. Правда, дабы уравновесить спор, пришлось напомнить, что-де Ходасевич зато был замечательнейшим, большим поэтом.)
Помню, как в шестидесятые — кажется — годы мой добрый знакомый, прославленный астрофизик Иосиф Шкловский ликовал, протащив в свою специальную известинскую статью гумилевские строки — понятно, процитированные без имени автора:
Хотя, уточнял педантичный Иосиф, не говоря уж о том, что Венера — планета, а не звезда, и листья на ней скорее были бы красными.
Боже ты мой, какой скандал вызвало это четверостишие, едва невеждам из «Известий» эрудиты настучали о криминальном авторстве!
Повторю: несмотря на все это, поэтическая (так сказать, внутрипоэтическая) судьба Гумилева сложилась удачно. Даже — не благодаря ли этому, то есть запрету? Тому, что списанный в расход и записанный в контрреволюционеры, Гумилев не был посмертно затянут ни в какие советские игры? Во всяком случае, трудно назвать еще одного поэта (о Маяковском речь не идет, его эпигоны чаще всего заимствовали одну только «лесенку»), который так мощно влиял как поэтикой, так и пафосом мужественности на столь длинный ряд стихотворцев. В первую голову — на Тихонова и Луговского, Симонова, Светлова, Прокофьева…
Другое дело, что, по замечанию Семена Липкина, «для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры». Можно, однако, добавить, что колонны худо-бедно, а служили делу украшения.
Менее счастлив, чем Гумилев, оказался Блок.
Тот же Маяковский в поминальной статье «Умер Александр Блок», совершенно точно сказав, что в поэме «Двенадцать» тот «надорвался», описал и прокомментировал их петроградскую встречу (впоследствии ставшую главкой в поэме «Хорошо!»):
«Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: „Нравится!“ — „Хорошо“, — сказал Блок, а потом прибавил: „У меня в деревне библиотеку сожгли“.
Вот это „хорошо“ и это „библиотеку сожгли“ было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме „Двенадцать“. Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию (например, Горький. — Ст. Р.), другие — славу ей (например, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин. — Ст. Р.).
Поэмой зачитывались белые, забыв, что „хорошо“, поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что „библиотека сгорела“. …Славить ли это „хорошо“ или стенать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал».
Что верно, то верно. Вообразить себя обливающим керосином родного отца Блок был не в состоянии — точно так же, как не мог бы, подобно тому же Маяковскому, начать стихотворение строчкой: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Но большевики сами выбрали в двойственном поэте, отнюдь не перешедшем на их сторону целиком, с потрохами, то, чем он может сослужить им службу.
Образ поэта, призвавшего все-таки слушать музыку Революции и оправдавшего разорение храмов и «вишневых садов», позволял даже вовсе не революционные его строки приспосабливать к нуждам новой действительности. Конечно, и речи быть не могло о том, что из стихов Александра Александровича можно надергать столько призывов и лозунгов, как из стихов Владимира Владимировича, но, например (одним примером и ограничимся), сколько можно припомнить статей с бодряческими заголовками: «И вечный бой!» или «Покой нам только снится…».
Разговор в них мог идти об успехах в строительстве или в «битве за урожай», о постоянной готовности советских писателей откликаться на призывы партии, — никому не было дела до того, что эти заглавия, превращенные во всплески казенного оптимизма, у Блока были словами глубокой тоски. Словами слезного сожаления, что нет никакой возможности обрести наконец то, что Пушкин назвал «покоем и волей»:
Сквозь кровь и пыль! И — только снится, как нечто желанное, но недоступное!
Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль…
Давно стало правилом: кáк сразу добреет власть к писателю, даже и подозрительному, лишь бы не к прямому врагу и не к объявленному таковым (те же Гумилев, Ходасевич), стоит ему умереть. Он больше ничего не напишет опасного, недозволенного, а то, что написано им при жизни, всегда можно или изъять из библиотек, или перетолковать в свете, для власти выгодном.
(Одна беда, с появлением «самиздата» возросшая: порою и после смерти возникает из нетей то, что было написано, да пряталось в ящике стола. Как случилось, к примеру, с повестью Василия Гроссмана «Все течет».)
Да и самогó дорогого покойника можно сделать своим союзником, сообщником, соучастником.