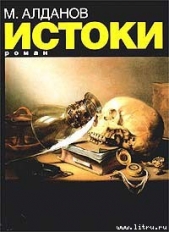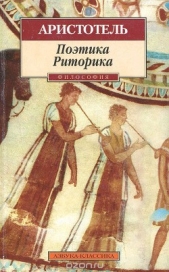Риторика и истоки европейской литературной традиции

Риторика и истоки европейской литературной традиции читать книгу онлайн
Цикл исследований, представленных в этой книге, посвящен выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики, а в конечном счете между трансформациями европейского рационализма и меняющимся объемом таких простых категорий литературы, как “жанр” и “авторство”. В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии. Особое внимание уделено роли аристотелевской парадигмы в истории античной, средневековой и новоевропейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы сказали, что византийская литературная теория была авторитарной; но сказать так — еще недостаточно. В конце концов литературная теория бывает авторитарной в той мере, в какой она нормативна. Авторитарна литературная теория западного средневековья. Довольно авторитарна литературная теория гуманистов Возрождения, особенно позднего [33]. Что до литературной теории классицизма, уж она была настолько авторитарна, что сделалась притчей во языцех как «школьная ферула», и прочая, и прочая. Во всех этих случаях, однако, авторитарность не мешала посмотреть на противника — хотя бы краешком глаза и свысока; не мешала упоминать то, что отвергалось и выводилось за пределы «правильной» словесности, а значит, называть его каким-то именем — хотя бы насмешливой кличкой. Иначе говоря, это каждый раз авторитарность в ситуации спора.
Так обстоит дело не только в истории литературных программ, но, шире, в общей истории культуры, служившей для них контекстом. Что, спрашивается, может быть авторитарней ортодоксальной схоластики? Но ведь она просто не выходила из ситуации спора. Как известно, Фома Аквинский в «Сумме теологии» начинает обсуждение любой проблемы выставлением тезиса, обратного тому, который ему предстоит доказывать; например, доказательства бытия Божия начинаются словами: «представляется, что Бога нет». Иначе говоря, каждый ортодоксальный тезис дан как антитезис своего антитезиса, явленный на свет под знаком спора. «Весьма противно доказывать то, что противно противному», — шутил Сергей Бобров в книге о математике для детей «Волшебный двурог»; но Аквинат, можно сказать, только тем и занимался, что доказывал противное противному, и в этом выразила себя какая-то фундаментальная парадигма, не потерявшая своего значения для западноевропейской культуры с концом средних веков.
Именно поэтому историку так легко и удобно описывать историю авторитарных теоретико-литературных концепций на Западе — словно вести драму с выигрышным сюжетом, по всем правилам разыгрывающуюся во времени, от одного акта к другому. Новый спор сменяет старый спор, и его завязка дает четкую временную веху. Ряд больших дискуссий, каждая из которых острохарактерно и с очевидной для всех наглядностью определила содержание целой эпохи: борьба artes и аис-tores в средние века, описанная ниже в разделе «Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики» [34]; конфликт гуманистов и схоластической культуры в эпоху Возрождения; «спор Древних и Новых» во Франции XVII в.; наконец, столкновение позднего классицизма с романтизмом — вот фон для этого особого типа авторитарности. Как раз резкость проявлений последней — агрессивные выпады, пренебрежительное третирование того, что не умещалось в рамки правил, вызывающе нетерпимое формулирование собственной позиции — все это порождалось ситуацией спора и ее лишний раз подтверждало.
А как обстояло дело в Византии? Сказать без оговорок, что там картина была противоположной, нарисовать эффектный контраст, выстроить ряд соблазнительно четких антитез — на одном полюсе непрерывные диспуты, на другом полюсе отсутствие таковых — было бы насилованием фактов. Никакого эффектного контраста не получается; но попытки рассматривать историю византийской литературной теории под тем же углом зрения, с теми же готовыми представлениями, с которыми мы рассматриваем историю литературных теорий западного средневековья, тоже оказываются не совсем верным путем. Конечно, византийцы не так мало спорили за тысячелетие своей истории. Сейчас же хочется сказать: и все же диспут не стал у них таким центральным самовыявлением культуры, как это было на Западе, где он составил, между прочим, тему одного из важнейших шедевров пластики — яростно жестикулирующих фигур пророков в споре на хорах Бамбергского собора (ок. 1230 г.); и любой византийский теолог, даже самого рационалистического образа мыслей, очевидно, почел бы за кощунство начать раздел своего труда шокирующими словами: «представляется, что Бога нет» [35]. Византийское «прение» — это просто спор; но западный диспут — это институция и обряд, праздник и торжество, самое средоточие умственной жизни. Схожие факты оказываются несхожими в зависимости от того, занимают ли они место внутри культуры как целого ближе к центру или дальше от центра. Но повторим еще раз: спорили в Византии немало. В составе теологической литературы велик процент полемических сочинений против ислама, иудаизма, католицизма. Что касается споров [36], разыгравшихся внутри самой византийской культуры, можно упомянуть по меньшей мере две дискуссии, каждая из которых составила эпоху: это столкновение между иконоборцами и иконопочитателями в VIII—IX вв. и столкновение между паламитами и антипаламитами в XIV в. Даже и здесь есть культурнотипологический контраст с Западом: в обоих случаях каждая из сторон просто анафематствовала другую, они не могли, продолжая спорить, совместно оставаться внутри православия — в отличие от западных споров между доминиканцами-томистами и францисканцами-скотис-тами, где обе стороны оставались внутри католицизма, и спору не было причин приходить к концу. Но нас сейчас интересуют не теологические дискуссии, а борьба теоретико-литературных концепций; и вот здесь византинист находится в трудном положении.
Конечно, из наличной суммы риторических и околориторических текстов, которые оставила нам Византия, могут и должны быть извлечены какие-то элементы полемики, какие-то косвенные, прикровен-ные проявления конфликта противоположных взглядов. Этого там не может не быть. Чего там нет, так это дискуссий, так сказать, с большими контурами, в которых противоположные позиции выявляются с наглядной, парадигматической отчетливостью, так, чтобы не оставалось сомнений, о чем, собственно, велся спор. Когда речь идет о византийских дискуссиях, слишком многое приходится вычитывать между строк, а это занятие всегда небезопасное. В начале XIV в., в лучшую пору палеологовского расцвета, жили в Константинополе два литератора, эрудиты с энциклопедическим кругозором — Никифор Хумн и Феодор Метохит; последний принадлежит к числу самых значительных и оригинальных писателей за всю историю византийской культуры, да и Хумн — автор заметный. Оба они принадлежали к течению так называемого византийского гуманизма [37], и не так давно в них видели единомышленников [38]; эта иллюзия рассеялась после блестящей работы И. Шевченко, введшего в оборот неопубликованные материалы [39]. Выяснилось, что эти ученые (выступавшие также в качестве соперников на поприще политической и придворной жизни) спорили буквально обо всем на свете — по вопросам философии, астрономии, физики, отчасти поэтики и т. п. Казалось бы, полемика таких людей должна быть важным явлением культурной жизни, обнаружением некоей духовной поляризации. Но в чем принципиальная противоположность их позиций? В каждом отдельном пункте различие взглядов прослеживается довольно ясно: но слагается ли сумма этих различий в цельную, связную картину? Может быть, торопиться с отрицательным ответом опрометчиво; но для характеристики ситуации историка византийской культуры вполне достаточно того факта, что дать положительный ответ очень и очень нелегко.
В одной из глав III тома вышедшей в нашей стране «Истории Византии» мы читаем: «В противовес Метохиту, увлекавшемуся Платоном, Хумн был сторонником философии Аристотеля [40]; однако в следующей главе этого же издания мы встречаем фразу: «Нельзя считать Хумна аристотеликом, а его противника Метохита платоником» [41]. Это не недосмотр редакции издания и не расхождение во взглядах между авторами глав [42]. Неясность лежит в самом объективно данном положении вещей. Действительно, в полемике с Хумном Метохит систематически цитирует Платона; однако это не мешает Хумну заявить торжественный протест против отступлений Метохита от космологии Платона и выбранить своего оппонента «врагом» Платона [43]. С другой стороны, в специальном трактате «О том, что ни материя не существует прежде тел, ни эйдосы не существуют обособленно, но то и другое выступает в единстве» сам же Хумн критиковал платоновские диалоги «Тимей» и «Парменид». Кто тут был, кто не был платоником? Недаром выводы, к которым подводит читателя анализ, проделанный Шевченко, несколько разочаровывают; и это не вина исследователя. А ведь Метохит и Хумн как центральные фигуры византийского гуманизма по своему масштабу сопоставимы с такими представителями итальянского гуманизма, как Пико делла Мирандола и Эрмолао Барбаро; но такого стройного, значительного спора, каков был спор между Миран-долой и Барбаро [44], у них не вышло. Или, может быть, это византинистам все еще недостает информации и понятливости, чтобы уловить сквозную связь в дробной россыпи полемических стычек двух византийских ученых? Что ж, мы обязаны считаться и с этой возможностью. Но если такая связь есть, ее приходится не читать, а исключительно вычитывать — брать на себя, как мы уже сказали выше, риск чтения между строками. Что мы при этом вправду найдем в данности материала, а что нам примерещится от интерпретаторской натуги? Как раз там, где речь идет не об общекультурном контексте литературной теории, как это все еще было в примере с Метохитом и Хумном, а вплотную о самой литературной теории, все эти вопросы научной совести стоят особенно остро.