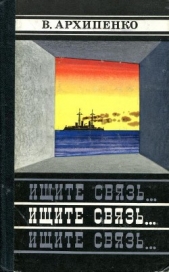Политэкономия соцреализма

Политэкономия соцреализма читать книгу онлайн
Если до революции социализм был прежде всего экономическим проектом, а в революционной культуре – политическим, то в сталинизме он стал проектом сугубо репрезентационным. В новой книге известного исследователя сталинской культуры Евгения Добренко соцреализм рассматривается как важнейшая социально–политическая институция сталинизма – фабрика по производству «реального социализма». Сводя вместе советский исторический опыт и искусство, которое его «отражало в революционном развитии», обращаясь к романам и фильмам, поэмам и пьесам, живописи и фотографии, архитектуре и градостроительным проектам, почтовым маркам и школьным учебникам, организации московских парков и популярной географии сталинской эпохи, автор рассматривает репрезентационные стратегии сталинизма и показывает, как из социалистического реализма рождался «реальный социализм».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рождение героя практически неизбежно в этой литературно–педагогической системе. Подобно всем соцреалистическим воспитуемым персонажам, колонисты выходят из горнила перековки сознательными, готовыми персонажами советского искусства. Момент сознательности имеет у Макаренко свою специфику. Есть соблазн назвать эту специфику возрастной, но она прежде всего дискурсивная. Педагог имел дело с возрастом, в котором криминальность и антисоциальность являются столь же социальным, сколь и физиологическим продуктом. Между тем нам редко сообщается о половых коллизиях в жизни колонистов. Значительно позже Макаренко посвятит проблеме «полового воспитания» немало страниц в своей «Книге для родителей». Здесь он писал, что оно «не может быть воспитанием физиологии», но является прежде всего «воспитанием культуры социальной личности» [333]. Что это означало? Половое воспитание есть, по Макаренко, воспитание «тормозов» (т. е. своего рода «половой дисциплины»): «Культура любовного переживания невозможна без тормозов, организованных в детстве. […] Уменье владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями – это важнейшее уменье», поэтому «специальное, целеустремленное, так называемое половое воспитание может привести только к печальным результатам» [334]. Отсюда вывод: «Будущая любовь наших детей будет тем прекраснее, чем мудрее и немногословнее мы будем говорить о ней с нашими детьми» [335].
Так вводится и обосновывается столь существенное для советской культуры понятие «неполовой любви» (о которой можно и нужно говорить) и утверждается своего рода «стыдливый дискурс» о любви «половой» (или «любовной», как называл ее Макаренко): «Силы «любовной» любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей (характерно, что Макаренко имел дело в основном с сиротами; значило ли это, что им не суждено было полюбить «невесту и жену»? С другой стороны, «любовь к товарищам» в спартански–казарменной атмосфере колонии могла и не способствовать развитию разнополой любви. – Е. Д.). И чем шире область этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая. Человек, который любит свою родину, народ, свое дело, не станет развратником. […] И совершенно точным представляется обратное заключение: тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным и бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин» [336].
Так или иначе, самая проблема пола рассматривается как досадная неизбежность: «Половой инстинкт […] оставленный в первоначальном, «диком» состоянии или усиленный «диким» воспитанием, может сделаться только антиобщественным явлением. Но связанный и облагороженный социальным опытом, опытом единства с людьми, дисциплины и торможения, – он становится одним из оснований самой высокой эстетики и самого красивого человеческого счастья» [337]. Традиционную коллизию – природа («дикий половой инстинкт») vs. культура («высокая эстетика и красивое человеческое счастье») – следует видеть в проекции дискурсивной динамики, перехода от того, что Эрик Найман определил как «готику НЭПа» [338], к тому, что можно было бы обозначить как «соцреалистическое барокко». Переход этот можно охарактеризовать как трансформацию открыто «пугающего», «угрожающего насилием» «готического» дискурса НЭПа в напыщенно–пафосный, преувеличенно–метафорический и парадно–приподнятый соцреалистический дискурс. Именно в соцреалистическом герое, в его монументальности и декоративности, в преувеличенной экзальтации его поведения разлита память о насилии.
Импульс к «сокрытию приема», который отчетливо ощутим в педагогическом дискурсе, наиболее последовательно реализует себя именно в риторике насилия, которой так богата педагогика Макаренко. Здесь уместно напомнить, что именно в эпоху Большого террора происходит радикальная смена дискурса о насилии. Во второй половине 30–х годов все советское криминальное право последовательно переписывается. Прежде всего в нем меняется отношение к преступлению и преступнику (который как в эпоху НЭПа, так и в эпоху первой пятилетки рассматривался едва ли не как «социально близкий элемент» и «жертва» старого строя, которая реабилитируется через «перековку»). Теперь, напротив, утверждалось, что наказание является высшей формой воспитания.
Параллельно с этим сам дискурс наказания последовательно маргинализируется, упоминания о наказании становятся все более редкими, так что может показаться, будто вовсе не оно составляет саму суть того, что ранее называлось «перековкой». Все это происходит на фоне реального и резкого ужесточения пенитенциарной практики второй половины 30–х годов [339]. Лишь один пример такого рода – из статьи А. Вышинского 1939 года: «Социалистическое государство, – писал он, – не «обруч», механически связывающий людей, не аппарат только насилия, как утверждали троцкистско–бухаринские авантюристы и их подпевалы из числа юристов, которые были разоблачены как враги и изменники нашей родины. Социалистическое государство – это система органов, учреждений, людей, объединяемых великой идеей борьбы за окончательное и полное торжество коммунизма» [340]. Ключевое здесь понятие «насилие» не только выведено в негативную однородную синтаксическую конструкцию, но поставлено в контекст нагнетающегося «тройного проклятия» (авантюристы/враги/изменники); ему противостоит магический мир «великих идей» и «полного торжества». Трансформации такого рода в официальном дискурсе были реакцией, условно говоря, на дискурс «ББК», где насилие едва скрывалось за перековкой, а затем на педагогический дискурс, где проблема наказания и насилия обсуждалась хотя и в категориях воспитания, но все же вполне открыто.
Неприятие Макаренко традиционной педагогики было взаимным: педагоги (педологи) обвиняли его в том, что он проповедует казарменную милитарную систему воспитания вместо «гуманистического подхода к ребенку». Макаренко отвечал на эти упреки не как педагог, но как художник по преимуществу: «В детском коллективе чрезвычайно красиво организуется единоначалие […] традиция военизации украшает коллектив, она создает для коллектива тот внешний каркас, в котором красиво можно жить и который поэтому увлекает […] должна быть эстетика военного быта, подтянутость, четкость, но ни в коем случае просто шагистика […] военизация – это эстетика, и в детском обществе она совершенно необходима» [341].
Но главный спор был прежде всего о наказании, поскольку оно вырастало из самой природы «военизированного» коллектива. Многократно Макаренко возвращался к своему излюбленному тезису: неверно, что наказание воспитывает раба. «Рабов воспитывает как раз не наказание, а самодурство, не ограниченная ничем беспардонность, позволяющая у нас некоторым педагогам воспитывать хулиганов» [342]. Напротив, «наказание может воспитывать и очень хорошего человека, и очень свободного и гордого человека. Представьте себе, что в своей практике, когда стояла задача воспитывать человеческое достоинство и гордость, то я этого достигал и через наказание […] наказание приводит к воспитанию человеческого достоинства […] наказание должно быть объявлено такой же естественной, простой и логически вместимой мерой, как и всякая другая мера […]. Такое убеждение, такая вера, что наказание есть допустимое зло, превращает педагога в объект упражнения в ханжестве. Никакого ханжества не должно быть. […] Наказание – это не только право, но и обязанность» [343]. Более того, педагог должен уметь «ломать» воспитуемого, он имеет право «произвести насилие». «Очень возможно, – писал он, – что в дальнейшем подготовка наших кадров (педагогических. – Е. Д.) будет заключаться в том, чтобы учить людей, как производить такую ломку. Ведь учат врача, как производить трепанацию черепа. В наших условиях, может быть, будут учить педагога, как такую «трепанацию» производить» [344].