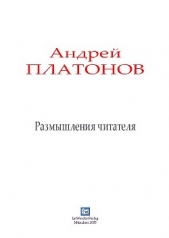По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова

По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова читать книгу онлайн
В книге Ханса Гюнтера исследуется творчество выдающегося русского писателя Андрея Платонова (1899–1951). На материале всего корпуса сочинений Платонова рассмотрена трансформация его мировоззрения, особое внимание уделено месту Платонова в мировой традиции утопического мышления и жанра утопии и антиутопии. Прослежены связи и переклички творчества прозаика с его предшественниками — от средневековых мистиков до Ф. Достоевского, Н. Фёдорова и других русских философов. Вместе с тем творчество писателя анализируется в контексте современной ему культуры. Книга обобщает итоги многочисленных предшествующих работ Х. Гюнтера о творчестве и мировоззрении А. Платонова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Недовольство детерминистическим учением Маркса присуще и А. Луначарскому, который считал нужным дополнить марксизм субъективными, эмоциональными, мифологическими компонентами. Для него Апокалипсис Иоанна — «высшее поэтическое выражение чаяний наиболее революционной части верующих в Христа» [593]. В своем изложении истории христианского социализма Луначарский обстоятельно рассматривает хилиастические направления от Иоахима Флорского до Томаса Мюнцера.
Можно считать закономерностью, что любая религиозная ортодоксальность склоняется к антиапокалиптической точке зрения, в то время как апокалипсис находится в центре гетеродоксальности [594]. Это относится как к средневековым хилиастам, так и к русскому расколу и сектантству. У хлыстов и скопцов можно говорить о «конкретной апокалиптике» [595], поскольку сошествие Духа понимается ими как экстатическое, телесное событие. «Ангелы» в белых одеждах являются для них постапокалиптическими существами. У бегунов или странников, наоборот, эсхатологический импульс превращается в постоянное бегство от царства Антихриста. Со времен раскола все переломные фазы истории сопровождаются апокалиптическими видениями и интерпретациями.
Очень влиятельной оказалась «Краткая повесть об Антихристе» Владимира Соловьева (1899–1900). На нее ссылались многочисленные авторы Серебряного века, в том числе А. Белый в трактате «Апокалипсис в русской поэзии» (1905) [596]. Для многих 1905 год представлял водораздел между политической и аполитической апокалиптикой [597] — рождается настоящий миф о революции [598].
Для разочарованного самодержавием Д. Мережковского сущность государства — от Антихриста, и он выражает надежду, что гибель политической России приведет к ее воскрешению в виде теократии [599]. В публикации 1908 года на немецком языке Мережковский пишет, что русская революция представляет «последнее действие в великой мировой драме освобождения человечества» [600]. Существенную роль в этом процессе он приписывает сектам, обладающим беспримерными со времен раннего христианства силой убеждения и глубиной. Раскольники и сектанты, согласно Мережковскому, живут по принципу: «Мы люди, у которых нет царства сегодняшнего, а ищем царства грядущего» [601]. «Избранные» и «мученики» из народа представляют движущую силу религиозной революции — по мнению Мережковского, она должна, в конце концов, соединиться с революцией политической. Революция 1917 года представляется Мережковскому также эсхатологическим событием, но на этот раз — под крайне отрицательным знаком. После отъезда из Советской России он надеется на победу над большевистским хамом — победу Третьей России свободного народа, «крестьянина-христианина» [602], победу Бога над Сатаной. Если буржуазная Европа не поймет религиозной сути этой борьбы, она обречена на гибель.
Апокалиптический характер революции подчеркивается и В. Розановым: «Все потрясено, все потрясены. Все гибнут; все гибнет» [603]. В потрясении фундаментов культуры и создании пустого пространства Розанов обвиняет господствующую церковь.
Очень легко найти и противоположные оценки Октябрьской революции. Так, например, для молодого Андрея Платонова главный завет Христа — в том, что «царство Божие усилием берется», и он выражает уверенность, что не покорность приблизит царство Христово, а «пламенный гнев, восстание, горящая тоска о невозможности любви» [604]. Как Христос выгнал торгашей из храма, так пролетариат выметет буржуазию из храма жизни.
Над русской культурой тяготеет, по словам Розанова, «странный дух оскопления, отрицания всякой плоти» [605]. Это относится не только к православной церкви, но и к сектантству, к таким мыслителям, как, например, Л. Толстой, Н. Федоров, В. Соловьев, Н. Бердяев и, как ни странно, — к господствующей сексуальной этике 1920-х годов. У хлыстов и скопцов, как и в исторических еретических учениях Запада, природная семья заменяется «духовной» — ее члены живут вместе не как муж и жена, а как «братья и сестры». Превращение людей в бесполые существа, в «детей» и «ангелов», происходит под знаком апокалипсиса, запрещающего размножение людей ввиду близкого конца. За отрицанием сексуальности стоит антипрокреативная точка зрения, нацеленная на пресечение генетической непрерывности человеческого рода. Коллективный экстаз или оскопление служат духовной трансформации тела, которое таким образом вписывается в трансцендентность [606]. Поэтому отрицание полового влечения приравнивается к отмене первородного греха и победе над смертью.
Сектантские представления оказали большое влияние на некоторых выдающихся деятелей русской культуры. Вл. Соловьев, преследуемый идеей самооскопления, отмечает в своем трактате «Смысл любви» (1892–1894), что настоящий человек не может быть мужчиной или женщиной, а лишь высшим их единством. Линия размножения человеческого рода в дальнейшем развитии уступит более высоким формам братских отношений, которые он называет сизигией [607]. Не удивительно, что названный труд принес Соловьеву репутацию русского Оригена [608]. Подхватывая и радикализируя эту мысль, Н. Бердяев видит в андрогинизме окончательную победу над половым делением человечества на его пути к «богоподобию» [609]. Ссылаясь на Новый Завет, он пишет, что «пол — не только источник жизни, но и источник смерти» [610], и предлагает перенаправить либидинозную энергию на творческий акт.
Утопический вариант отрицания пола и запрета на размножение мы находим у Н. Федорова, считавшего, что дети питаются кровью родителей. Прервать отрицательный круговорот рождения и смерти возможно лишь целомудрием, очищением рождения от всякой похоти. Половое размножение должно уступить место проекту воскрешения отцов: «Сыны и дочери человеческие, от отцов жизнь получившие, в брак телесный не вступают и умереть уже не могут, ибо рождение детей заменяется здесь воскрешением родителей, что и равняет сынов ангелам» [611].
В Серебряном веке осуществилось своеобразное сближение еретических представлений с декадентской эротической утопией части русской интеллигенции, считавшей, что можно победить смерть, «сопротивляясь прокреативному императиву природы и отвергая традиционные тендерные представления» [612]. После революции 1917 года сложилась совсем иная ситуация, но, очевидно, «странный дух оскопления», который был жив как в сектантской, так и в высокой культуре начала века, возродился под измененным идеологическим знаком. В этой связи Эрик Найман говорит о «дискурсе кастрации» [613]1920-х годов. Сюда он относит, к примеру, пролеткультовскую риторику коллективного мужского тела, нацеленного не на репродукцию, а на универсальное производство с помощью собранных мужских сил. Бросается в глаза вытеснение женского тела из советской иконографии, происходящее до начала 1930-х годов.