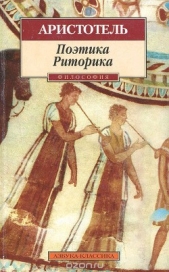Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же характерно, что настоящий культ книги приходит в эпоху эллинизма, когда греческая культура развивается на ближневосточной почве, и что первая библиотека невиданных доселе размеров, давшая образец коллекционерству последующих веков, возникает в Александрии, на земле Египта. Греческие «ученые» встречаются с «книжниками» и «священнокнижниками»; а бюрократическая монархия Птолемеев не меньше нуждается во всевозможной «писанине» и культе «писанины», чем государственность фараонов. Тогда и поэты окончательно становятся «учеными», библиотекарями и грамматиками, эрудитами и читателями, «книжной молью» (afjxei;), «тельхинами книг» vec, piptaov), как их называют эпиграмматисты 63; лучший пример — Каллимах.
Греческая — литература эллинистического и римского времени свидетельствует о таком любовном, даже сентиментальном отношении к самой вещественности книги, какое мы напрасно стали бы искать у авторов классической эпохи. Наш термин «библиофил» — слово, составленное из греческих корней, но отнюдь не греческое слово; греки в свое время соединили эти же корни в обратном порядке — «филобибл» (<piA.6p4 |$A,o<;); но потребность в таком слове возникла лишь в эпоху эллинизма64. Эпиграмма Афинея славит учения стоических философов, «занесенные на священные извивы свитков» 65; для него «священны» не только сами учения, «священны» книги, удостоившиеся их сохранять. Ореол осеняет не только «дух», но и «букву».
Стоит привести подробнее изъявление читательской нежности, относящееся уже к заре ранневизантийской эпохи — ко второй половине IV в.; оно взято из автобиографической речи Ливания «Жизнь, или О моей судьбе». Знаменитый ритор намерен поделиться с читателем своими драматическими переживаниями. У него был экземпляр «Истории» Фукидида, переписанный «письменами, в самой малости своей изящными»; он доставлял своему владельцу «сладострастное наслаждение (ti5ovt|), какого не мог бы доставить другой список». «Много и перед многими выхваляя свое достояние, — продолжает Ливаний, — радуясь ему более, нежели Поликрат радовался перстню, я привлек к нему воров». Душевное равновесие книголюба было нарушено. Ему было вовсе не трудно достать другие экземпляры Фукидидова труда, но в письме, которым они были написаны, не было «приятности», а потому Ливаний уже не мог получать прежней пользы от изучения великого историка. «Все же, — заключает он с пафосом, — Судьба, хотя и запоздало, возместила мне это удручение»; книга вернулась к владельцу. «Взяв книгу и воздав ей ласку, какая причиталась бы дитяти, на столь долгое время утраченному, ныне же обретенному, я отошел к великой радости, возблагодарив Судьбу тогда и не переставая благодарить ее по сей день». Ливаний чувствует, что его сентиментальная мания не всем понравится. «Пусть, кто захочет, смеется надо мною, как над бездельником, хлопочущим из пустяков; смех невежды не страшит» 66. Вот как обстоит дело: кто не способен ощутить в себе и оценить в другом привязанности к искусно выполненной книге, к изящному начертанию ее букв, тот, по мнению Ливания, просто невежда, профан, стоящий за дверями культуры — книжной культуры.
Меняется отношение образованного общества к искусству письма; одновременно меняется и само искусство письма, только теперь становясь действительно искусством в собственном смысле этого слова — одним из прикладных искусств, получивших такое значение в системе византийской культуры. Мы теперь называем искусство письма «каллиграфией», заимствуя слово из греческого языка; стоит отметить, однако, что греческое слово KocXAiypatpioc первоначально означало вовсе не изящество письма, а изящество слога67. Привычное для нас значение слова появляется как раз в самый канун ранневизантийской эпохи, к исходу III в. — ни раньше, ни позже; теперь «каллиграфом» называют писца особой квалификации, писца-художника, и слово это настолько входит в быт, что может войти в законы68. Каллиграфия получает фиксированный социальный статус.
Именно IV век, тот самый век, когда жил Ливаний, оказался временем, ознаменовавшим собой, как выразился некогда видный знаток палеографии, «поворотный пункт в истории греческого письма»; по его замечанию, «дистанция между образчиком письма начала IV в. и другим образчиком, который возник едва пятьюдесятью годами позднее, так неимоверна, что все изменения, испытанные письмом за предыдущие 220 лет, не идут с этим ни в какое сравнение» 69. Если Ливанию было так важно, каким почерком переписан его экземпляр «Истории» Фукидида, нас не должно удивлять, что писцы постарались удовлетворить запросы утонченных ценителей.
Итак, любознательность ученых эрудитов и эстетизм утонченных библиофилов — две силы, существенно стимулировавшие позднеантичный культ книги; обе эти силы
выросли из чисто «мирских» оснований эллинистической культуры, если и не без влияния ближневосточных традиций (влияния, которое легко уловить, но трудно измерить), то все же без прямого конфликта с тем, что в составе эллинизма было собственно «эллинским». Любовь к знанию, любовь к изяществу — что здесь чуждого образованному эллину? Однако мы недаром употребили слово «культ», которое принадлежит религиозной сфере. Позднеантичный культ книги мог стать действительно культом, в буквальном, отнюдь не метафорическом смысле слова, лишь под воздействием двух других факторов: оба они были религиозными по своему характеру — и явно внеэллинскими по своему генезису.
Первым фактором было присущее христианству преклонение перед Библией как письменно фиксированным «словом Божьим».
Вторым фактором было присущее позднеиудейскому (протокаббалистическому), позднеязыческому и гностическому синкретизму преклонение перед алфавитом как вместилищем неизреченных тайн.
Начнем с роли христианства. Как известно, церковь восприняла из иудейской традиции не только (расширенный) ветхозаветный канон, но, что важнее, тип отношения к канону, идею канона («Тора с небес» 70); по образцу ветхозаветного канона она отобрала новозаветный канон. Современное религиеведение зачисляет христианство в категорию «религий Писания» («Schriftreligionen»); так в свое время мусульмане зачислили христиан в категорию «ахль аль-китаб» («людей Книги» 71). Правда, если говорить о совсем тонких нюансах, надо сказать, что культ книги в христианстве не столь абсолютен, как в позднем иудействе и в исламе. Согласно новозаветному изречению, «буква убивает, а дух животворит» 72; и недаром буквы новозаветного канона не подверглись благочестивому пересчитыванию, как буквы иудейского канона73. Иудаизм и вслед за ним ислам разрабатывали доктрину о предвечном бытии сакрального текста — соответственно Торы или Корана — как довременной нормы для еще не сотворенного мира74; но в христианстве место этой доктрины занимает учение о таком же предвечном и довременном бытии Логоса, притом понятого как личность («ипостась»). Есть один образ, который стоит для христианского сознания много выше, чем письмена «Писания»: это человеческое лицо Христа — лик воплощенного Логоса. «Я узрел человеческое лицо Бога, — восклицает византийский теолог, — и душа моя была спасена!» 75 Центральная задача византийского сакрального искусства— построение «Лика»; вспомним легенды об отпечатке Иисусова лица, чудесно проявлявшемся на плате Вероники, на плате топарха Авгара, на доске евангелиста Луки 76. Напротив, в круге культуры ислама миниатюрист, даже решившись изобразить фигуру «Пророка», из почтения оставлял вместо лица — белое пятно; контраст очевиден. Поклонение «Лику» ограничивает поклонение «Книге». По христианской доктрине, норма всех норм, «путь, истина и жизнь» — это сам Христос (не его учение или его «слово», как нечто отличное от его личности, но его личность как «Слово»)78; евангельские тексты — сами по себе лишь «записи» о нем, ссяоц. упцоуе'бцата, как выражается Юстин79.
И все же само имя «Логоса», или «Слова», очень естественно ассоциировалось с понятием «слова» как текста, с понятием книги. Мы имеем любопытное тому подтверждение. Некий христианин по имени Муселий на свои деньги выстроил библиотеку, и вот анонимная эпиграмма ранневизантийской эпохи так восхваляет его поступок: