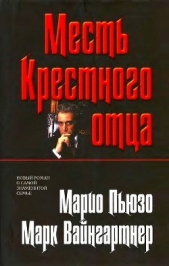Бесы: Роман-предупреждение

Бесы: Роман-предупреждение читать книгу онлайн
В «Бесах» Достоевского с пугающей силой предвидения было угадано многое из того, что явила наша последующая история. Однако роман, с навешенным на него ярлыком «махровая реакция», долгие годы принято было клеймить и обличать.
Книга Л. Сараскиной рассказывает об историческом, духовном и художествен ном опыте, который заключает в себе роман-предупреждение Достоевского. Деятельность идейных наследников Петра Верховенского и Шигалева прослеживается в России 30-х годов, в ряде других стран, исследуется на материале произведений Е. Замятина, И. Бунина, В. Короленко, М. Волошина, М. Горького, А. Белого, Дж. Оруэлла, Б. Можаева, творчества Р. Тагора, Акутагавы Рюноскэ…
«Вообще, в лице этого исследователя наше литературоведение имеет, по-моему, человека призванного, для которого Достоевский (и особенно — «Бесы») — это не предмет чисто академического интереса (хотя она и обладает превосходной академической школой), а судьба».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
195
ивной вере, которую испытывает девушка («Нанкинский Христос», 1920). Слуга Гонскэ, во что бы то ни стало решив ший стать святым, двадцать лет бесплатно выполнял самую черную работу у хозяев, которые посулили ему, что научат «искусству святого — быть нестареющим и бессмертным». По истечении срока, рассчитывая избавиться от докучливого слуги, они преподносят ему последний и самый якобы главный урок: велят прыгнуть вниз с высокой сосны. Послушный Гонскэ, оторвавшись от дерева, чудесным образом неподвижно замер, а далее — «спокойно зашагал по синему небу и, уда ляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках» («Святой»,1922). Бескорыстие, чистосердечие, душевная ясность и безогляд ная вера имеют в глазах Акутагавы высокую духовную цен ность; способность человека жизнью подтвердить свою предан ность идеалу бесконечно привлекательна для писателя. Мечта тель Бисэй из рассказа «Как верил Бисэй» (1919) ждет под мостом возлюбленную так долго и так неистово, что не заме чает, как объяли его воды прилива, лишь дух Бисэя «устремил ся к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому что он был влюблен». «Это и есть дух, — пишет Акута¬ гава, — который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному: и днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисэй в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет». С той же страстью, с какой герои осуществляют свое право на жизнь — на человеческое достоинство, любовь, веру, мечту, добро, с той же неистовостью они предаются злым соблазнам, преступным помыслам, покушаясь на жизнь чужую.
Преступление
«Самое важное для биографии великого писателя, великого поэта, — считал Сент-Бёв, — это уловить, осмыслить, подвер гнуть анализу всю его личность именно в тот момент, когда более или менее удачное стечение обстоятельств… исторгает из него первый его шедевр. Если вы сумели понять поэта в этот критический момент его жизни, развязать его узел, от которого отныне тянутся нити к его будущему… тогда вы можете ска зать, что знаете этого поэта» 1. 1 Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. М., 1970, с. 49.
196
Через все творчество Акутагавы протянулись нити от его первого шедевра, новеллы «Ворота Расёмон». Тема преступле ния, поставленная и решенная в этой новелле как психоло гический эксперимент по мотивам Достоевского (преступление совершается в оптимальных для преступника условиях — «О, если бы я был один!»), стала одной из главных в творчестве японского писателя. Без преувеличения можно сказать, что добрая половина всех его рассказов так или иначе связана с проблематикой «преступления и наказания» — и именно в том особом преломлении, которое было задано ей Достоевским. Акутагава вслед за своим великим русским предшественником интересовался не уголовно-детективным, а нравственным аспектом темы — трагическими изломами и тупиками инди видуализма и «подполья», рождающими аморальные и античе ловеческие теории. Японский писатель учился постигать суть этих теорий, которые в своих предельных значениях санкци онируют «кровь по совести», «убийство по убеждению»; ана лизировал уловки и ухищрения преступного сознания, позво ляющего человеку перешагнуть через жизни других людей и оправдывать преступление благими целями. Уже через три года после «Ворот Расёмон», в 1918 году, Акутагава написал выдающееся произведение, ставшее одним из его вершинных творческих достижений, — новеллу «Муки ада». По поводу этой новеллы существует обширная лите ратура. Историю о художнике, создавшем шедевр ценой гибели любимой дочери, сгоревшей в огне — «в муках ада», интер претировали и как притчу о превосходстве искусства над жизнью, и как символ всепоглощающей, фанатичной страсти художника к своему творению, и как вариацию на темы легенд о Микеланджело, распявшем якобы юношу-натурщика, чтобы выразительнее изобразить муки Христа, и как диалог с Пушки ным о совместимости гения и злодейства, и как художествен ное исследование природы вдохновения, творческой силы и одержимости в их связи с добром и злом. Есть, однако, глубокий смысл и в том, чтобы рассмотреть «Муки ада» с точки зрения той традиции Достоевского, ко торую столь глубоко и самостоятельно продолжил Акутагава в «Воротах Расёмон». Античеловеческий, индивидуалистический принцип «все дозволено» делит человечество на категории — на тех, «ве ликих», кому все дозволено, и тех, многочисленных, как «песок морской», с кем все дозволено. Легко «работает» этот принцип, когда «песок», 9/10 человечества, — безликая,
197
безымянная толпа, которую не видят воочию вожди-теоретики. Срабатывает теория о «низших» и «высших» категориях и тогда, когда в жертвы определена старушонка-ростовщица, «бесполезная и вредная вошь» (у Достоевского), или столь же ничтожная старуха, обирающая мертвецов (у Акутагавы). Теоретик Родион Раскольников арифметически вывел: «Одна смерть и сто жизней взамен… Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что ста рушонка вредна». Родиона Раскольникова-практика ариф метика, однако, подвела: пришлось убить и беременную Ли- завету (уже не одна, а целых три жизни), едва не погубить Миколку. Вся логика гениального романа и его поэтика, весь ход мысли Достоевского позволяют поставить (а жизнь давно поставила уже) страшные вопросы: как бы поступил Расколь ников, попадись на месте Лизаветы Соня? Дуня? мать? Неуже ли убил бы и их? А если бы не убил бы, не смог, рука не подня лась, значит, не срабатывает теория и нужна к ней «попра вочка»? В «Преступлении и наказании» Достоевский остано вился перед чудовищным, но логическим следствием «крови по совести» — матереубийством: Пульхерия Александровна, мать Раскольникова, не убита топором, а сходит с ума и умирает от горя. В «Братьях Карамазовых» принцип «все дозволено» хотя и санкционировал отцеубийство, но и здесь он сопро вождался уже знакомой арифметикой — «Зачем живет такой человек?». Растленный, жадный, алчный Федор Павлович Карамазов, сладострастник и циник, как бы сам «нарывался», лез на рожон и не вызывал сочувствия у своих сыновей. Тема же детоубийства, мучившая Достоевского всю жизнь, не была напрямую связана с индивидуалистическими теориями героев- идеологов; преступления против детей совершаются извергами (генерал, затравивший ребенка собаками) и сладострастни ками (Ставрогин, погубивший Матрешу), но не теоретиками. И хотя детоубийство подразумевается и теорией Раскольни кова, и «учением» Шигалева, и стратегией Петра Верховенско го, все же дети — косвенные, а не прямые жертвы их практики. Более того, Иван Карамазов, спровоцировавший Смердякова этим самым «все дозволено» на убийство отца, мира божьего не принимает, мировую гармонию отвергает из-за одной только слезинки замученного ребенка. Художественная мысль До стоевского отступает перед страшной, но реальной возмож ностью — вдруг под топором или пулей преступника-теоретика окажется ребенок, может быть даже его собственный.
198
Именно эту возможность и реализует Акутагава, так же, как в «Воротах Расёмон», предельно ужесточая условия экспе римента. В «Муках ада» носителем принципа «все дозволено» оказывается в самом деле незаурядный человек — знаме нитый художник, фанатично одержимый своим искусством, стремящийся добиться максимальной силы и выразительности в создаваемых им шедеврах. Картина «Муки ада», над которой работает художник, грандиозна по масштабам и как будто благородна по замыслу; ее задача — художественно вопло тить непереносимые, адские человеческие страдания. Не щадя себя, самоотверженно и исступленно художник Ёсихидэ со бирает материал для картины, отыскивая в самой жизни про образы ада. И тогда, когда действительность не дает ему доста точно убедительного материала, он в порядке эксперимента разыгрывает сцены жестокости, создает ситуации диких муче ний — заковывает в цепи одного ученика, напускает на другого невиданную диковинную птицу, натренированную когтить че ловека. Не вдруг, а постепенно созревает у него сознание собственной исключительности, безнаказанности и вседозво ленности, благо этому сопутствует и попустительствует жесто кость нравов при дворе («его светлость» князь ради развле чения отдает «в сваи» при постройке моста любимого отрока). Необузданная жестокость властителя, обстановка полного беззакония и стали тем необходимым условием, без которого эксперимент на темы Достоевского, поставленный Акутагавой, не смог бы состояться. Второе условие эксперимента — обнажить цель художника, ради которой он преступает черту дозволенного. «Красота спасет мир» — знаем мы из Достоевского. «Некрасивость убьет» — оттуда же. Картины художника Ёсихидэ создаются вопреки красоте; они полны злой и разрушительной силы: «…о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, кото рые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трех лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают». Так искусство мстит за себя, за попрание основ ного своего назначения — творить добро и красоту. Пугающе, непривычно обнаженно звучит в устах художника Ёсихидэ и другое признание: «…всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» «Некрасивость убьет» — это проро-