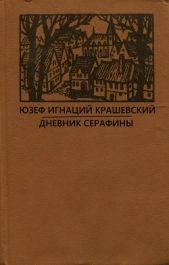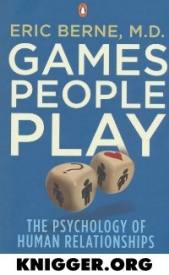Бессмертны ли злые волшебники

Бессмертны ли злые волшебники читать книгу онлайн
Это неожиданная книга. В ней документальное повествование переходит в художественные новеллы, а поэтические этюды о человеческих характерах перерастают в философские размышления о жизни. Происходит это потому, что автор открывает перед читателем лабораторию своей мысли. Его мысль упорно хочет проникнуть в тайны человеческих судеб, понять законы, управляющие человеческими отношениями и человеческими поступками, найти истоки человеческих взглядов на добро и зло. А когда мысль не стоит на месте, когда она ищет, то ей приходится вбирать в себя очень многое. Это целый поток историй, конфликтов, воспоминаний, ассоциаций… Это книга о любви и о счастье, о людях, одержимых страстью творить в мире добро, о таланте видеть жизнь удивленными глазами. Вечные проблемы — добро и зло, любовь и ненависть, бескорыстие и скупость, вдохновение и приземленность — получают у автора современное звучание. Оставаясь вечными, они приобретают новые оттенки, обогащаются духом нашей эпохи, авторским видением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь она не была похожа на женщин А. Н. Островского: в ее лице, в ее голосе была та изменчивость, та живая игра, которую один из наших ведущих очеркистов назвал однажды старомодно и возвышенно «трепетом современности».
— Нет, учителю литературы, — объявила она убежденно, — тяжело особенно. Посудите сами, естественники, та же Малявина, судят: поражение или победа — по глубине понимания аксиомы, формулы. Верно? А у нас, помимо глубины, есть еще и нравственный подтекст понимания. Согласны? И решить: поражение или победа — часто бывает нелегко. Но когда действительно победа!.. Естественники подтрунивают надо мной. Конечно, и закон Бернулли важно понять, чтобы быть мыслящим человеком. Но когда девочка смеется над письмом Татьяны к Онегину и все эти «Ты в сновиденьях мне являлся» и «Перед тобою слезы лью» кажутся ей милыми нелепостями, а потом однажды после уроков говорит: «Полина Карповна! „Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна“ — это так естественно и хорошо, будто бы и не Пушкин, а я сама подумала…» — я вижу, моя победа больше! Хотя… иногда за победой идет беда. Это та самая девочка, из-за которой вы ищете Малявину.
Мне казалось, что я вот-вот узнаю, что же это за «та самая девочка» и почему я должен из-за нее искать именно Малявину. Было совершенно ясно, что речь идет о какой-то второй истории из жизни Малявиной, известной несравненно более широко и, видимо, волнующей людей острее, чем та, первая.
Но моя собеседница, помолчав, заговорила суховато о том, что между педагогическим и обыкновенным человеческим тактом, в сущности, нет никакой разницы: педагогический — лишь высшая степень человеческого. Поэтому когда бестактен педагог — бестактен человек. Это, разумеется, ужасно — ужасно потому, что ранит детей. Но бывает особая бестактность, идущая не от характера, а от состояния души человека: бестактность минуты, за которую потом мы судим себя сами.
— Вам не надо было ехать к нам! — повторила она. — И без вас, извините, тяжело…
Меня уже не удивляла тишина в школе, но полновесность этой большой тишины я ощутил еще раз, когда она будто бы упала, как падает большое тонкое стекло, разбиваясь на тысячу осколков.
А через минуту в учительскую вошли несколько человек: молодая женщина, еще одна, постарше, и трое мужчин. О том, что сейчас, должно быть, войдет Малявина, я подумал, как только послышались голоса, и, едва увидел молодую, понял: она. С той особенной емкостью восприятия, что неизвестно откуда берется, когда перед тобой человек, о котором раньше слышал или думал, не видя его никогда, я мгновенно «вобрал» в себя ее напряженное, какое-то неправильное лицо с высоким незагорелым лбом и детски беспомощным подбородком, ее какие-то беспокойные, с живыми, нервными пальцами руки и неточную ее походку.
Комнату, должно быть виденную сотни раз, — с морщинистым, как лицо старухи, глобусом, унылым чучелом какой-то птицы, шкафом, набитым ржавеющими бумагами, — она оглядела быстро, нервно, будто ожидая найти что-то новое, острое. И нашла: меня. А я улыбнулся нелепо, точно умышленно выделяя себя этой улыбкой из обжитого и неопасного мира глобуса, чучела, старых бумаг.
Полина Карповна поймала ее руку. Усадила рядом. Мужчины и женщина постарше отошли к окну, саркастически обсуждая архитектурные особенности «химкомплекса».
— Действительно, — коротко рассмеявшись, согласилась Полина Карповна, ловко выхватывая нить из их разговора. — Дом культуры построили с колоннами. Да вы увидите! Сам комбинат — оригинальное современное сооружение, в сумерках будто карандашом нарисован, одной линией. А в Доме культуры все детали античности. В целом нечто вроде кентавра…
— Да… — ответил я, вспоминая первое впечатление, еще в поезде, — город ваш в самом деле… — и посмотрел на Малявину.
— Да вы познакомьтесь, — тихо и будто небрежно уронила Полина Карповна, — товарищ к вам, Таня… Татьяна Ивановна… из Москвы, из редакции.
— Наверно, нам лучше уйти, — начал я, чувствуя все большую неловкость.
— Да, разумеется, — решительно согласилась она.
Улица, устланная желтым листом, шла под уклон. Маленькая деревянная церковь, должно быть, построенная лет триста назад, с разрушенными от старости ступенями, казалась забытой, поломанной игрушкой на дымном исполинском фоне нового химкомбината с могучим лаконизмом несущих конструкций и путаницей переходов, галерей. Было в этом очерке что-то инопланетное, марсианское, что ли, углубляющее земную детскость осенней улицы, по которой мы шли.
Я думал: с чего начать? В голове надоедливо вертелось. «Вы мне писали…» Но писала-то она не мне, а «благородному и мужественному», без имени и лица — Человеку с большой буквы писала, а не тому реальному, с маленькой буквы, который идет рядом и о чем-то думает и молчит.
Я молчал, потому что понимал, как легко сейчас оказаться бестактным. И, понимая это, совершил самую, вероятно, большую бестактность: достал ее письмо. Она посмотрела на мои руки.
— Разрешите? — сжала его в пальцах и, сутулясь, сунула в сумку. — Я хотела написать, — резко откинула голову, — чтобы его сожгли. Но меня остановила мысль, что вы подумаете там, будто я теперьчего-то боюсь. Наверно, потому, что боюсь в самом деле…
Я отметил про себя это старомодное, книжное «сожгли». Будто в 60-х годах XX века письма жгут. Построим, черт побери, камины у себя в редакции, поставим канделябры! Ко мне вернулось утраченное на несколько минут ощущение реальности. Я почувствовал себя в состоянии отнестись к Т. И. Малявиной в достаточной мере здраво и трезво, с той исключающей досужие вымыслы и сантименты определенностью, которая спасает от ошибок в любом деле.
— Чего вы боитесь теперь? — посмотрел я на ее высокий незагорелый лоб.
— Я боюсь, — она нехорошо, жалко рассмеялась, — что вы напишете обо мне фельетон.
Этот «фельетон» был, видимо, родным братом камина, в котором, по ее убеждению, в редакциях жгут письма.
— Забудем о моем письме. Хорошо?
— Понимаете, Татьяна Ивановна, — начал я, стараясь быть максимально четким и в то же время не обидеть ее, — если бы я ехал к вам сюда в метро или на такси, то, видимо, отнесся бы к этим резким переменам в вашем настроении или вашем состоянии нетребовательно и, оставив вам для сожжения уже ненужное письмо, вернулся к себе на работу. Но расстояние между нами две с половиной тысячи километров. Я ехал двое суток с пересадкой («Ох, про пересадку не нужно», — мелькнуло). С ночной пересадкой, — повторил я упрямо, — оставив в Москве немаловажные дела…
— Да! — перебила она меня. — Да… Но поймите!
— Хочу понять, — сказал я.
— Мне казалось тогда, что надо мной, как над героиней той картины, смеется весь город. Смеется и жалеет…
— Почему вы все время думаете о «Главной улице»?
— Я видела этот фильм… Сядем? — Мы опустились на засыпанную листьями косую скамью в конце улицы. — Видела его два, нет, три года назад в маленьком городе, меньше этого. Я тоже была одна. И шла зареванная вечером из кино через темную площадь. А там висел большой рупор. Радио… И передавали как раз новости. О том, что Кусто уже сто седьмой день живет под водой, в Голландии нашли неизвестную картину Рубенса и в какой-то американской обсерватории уловили странные сигналы… А я шла через ту неосвещенную площадь, чайная, помню, была еще открыта, слушала поневоле и думала о том, что ничего этого не нужно: ни жизни Кусто под водой, ни сигналов из космоса, ни даже Рубенса… Зачем это, если можно так унижать женщину? Дура я… Люди ходят в кино, чтобы отдохнуть… Потом решила: забуду! Не забыла, даже видела однажды во сне тот испанский город… этих шутников… и ее…
Теперь, когда мы сидели, я мог рассмотреть Малявину подробно. Это лицо с непропорционально высоким лбом и детски беспомощным подбородком, эти худые, сутулящиеся плечи, ноги в разбитых — не поймешь: мужских ли, женских? — башмаках, должно быть, удобных для экскурсии на комбинат. Она была поразительно неженственна, некрасива. Вот только руки — крупные, нервные, с удлиненными изящными пальцами.