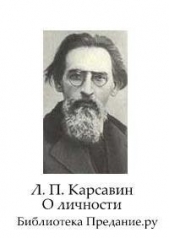В поисках личности: опыт русской классики

В поисках личности: опыт русской классики читать книгу онлайн
Здесь исследуется одна из коренных проблем отечественной литературы и философии 19 века «о выживании свободной личности» - о выживании в условиях самодержавного произвола, общественной дряблости, правового нигилизма и народного бескультурья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алёша. — Я думаю, что все должны, прежде всего, на свете жизнь полюбить.
— Жизнь полюбить больше, чем смысл её?
— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасён».
В отличие от старика Карамазова Иван этот смысл ищет, он не может примириться с мировой дисгармонией: «Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его». Однако мир столь жесток, а человеческие страдания столь неисчислимы, мучительны и безысходны (особенно несправедливы, сердце раздирающи страдания детей), что герой Достоевского требует отмщения и возмездия. И это отмщение он отказывается уступить Богу, говорящему: «У Меня отмщение и воздаяние» (Втор. 32, 35); Иван перефразирует это высказывание, оборачивая его на себя: «Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал». Бог, по мысли Ивана, не может, не имеет права найти оправдание человеческим страданиям. Весь комплекс идей Ивана сформулирован им в афоризме, которым он начал разговор с Алёшей: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Поэтому всю полноту ответственности за этот мир, раз Бог не сумел его устроить на гуманных началах, Иван принимает на себя. Но может ли человек — один — взять на себя такую ответственность? Не означает ли на самом деле такой самовластный индивидуализм отказ от реальной — человеческой — ответственности за свои поступки? Это один из важнейших вопросов, поставленных в романе.
Богоборческий пафос Ивана производил уже на современников, даже в целом не принимавших роман, весьма сильное впечатление. Образ Ивана Карамазова ставили в ряд таких образов мировой культуры, как библейский Иов [31], Люцифер, байроновские Каин и Манфред, лермонтовский демон и т. п.
Из всех этих параллелей, пожалуй, наибольшего внимания заслуживает параллель Ивана Карамазова с библейским богоборцем Иовом. У Достоевского часто в романах бывают своеобразные намёки на те произведения мировой литературы, которые должны служить как бы неким комментарием, камертоном к изображаемым им событиям и героям. Скажем, в «Идиоте» таковым является стихотворение Пушкина о «бедном рыцаре», которое чистая Аглая, позволяющее писателю оттенить рыцарское, донкихотское служение князя Мышкина своему идеалу. В «Братьях Карамазовых» сразу после исповеди Ивана Алёше (главы «Бунт» «Великий инквизитор») и его разговора со Смердяковым («С умным человеком и поговорить любопытно») следует книга «Русский инок», где старец Зосима называет важнейшим духовным впечатлением своей жизни легенду об Иове, праведнике, «вопившем на Бога» после неисчислимых своих страданий, но впоследствии прощёном Богом. Старец не только называет её, но и пересказывает — в своей трактовке, — словно нарочно опуская богоборческие речи героя, составляющие три четвёртых «Книги Иова». И, возможно, это не случайно, поскольку высказывания Ивана Карамазова и библейского героя поразительно совпадают. Так же, как и Иван, искушаемый своими несчастьями и несчастьями мира Иов обвиняет Бога: «Он губит и непорочного и виновного. Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых; лица судей её Он закрывает. Если не Он, то кто же?» (Иов. 9, 22-24). Он не отвергает Бога, но вступает с ним в спор: «Но я к Вседержителю хотел бы говорить, и желал бы состязаться с Богом» (Иов. 13, 3). Читатель прошлого столетия (к которому обращался Достоевский), знающий Библию хотя бы по гимназической программе закона Божьего, неминуемо должен был не только увидеть пропуска в рассказе старца, но и, припомнив речи Иова, искушаемого — с разрешения Бога — сатаной, соотнести их с речами Ивана и понять, что Иван уж во всяком случае, не искуситель, а искушаемый. Тема Иова, надо это отметить, была устойчивой в интересах Достоевского. Ещё в 1875 году в письме к жене он писал: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг; бросаю, хожу по часу в комнате, чуть не плача… Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был ещё тогда почти младенцем!» {324}. Мотив Иова слышится в «Подростке», в поучениях Макара Долгорукого {325}. Несомненно и то, что, задумывая «Житие великого грешника» (своего рода преддверие «Братьев Карамазовых»), Достоевский не мог не обратиться к едва ли не единственному библейскому образу праведника-богоборца. Эта параллель, во всяком случае, показывает одну из причин уважительно-серьёзного отношения автора к своему герою бунтарю. Достоевский пишет свой вариант человека, возмутившегося Божественным устройством мира, и его путь к самопознанию и познанию смысла мира. Путь весьма нелёгкий.
В своей поэме «Великий инквизитор» Иван утверждает бессилие Христа (предоставившего людям свободу выбора своей жизненной позиции) исправить людей и преодолеть свободой их разобщённость: «У тебя лишь избранники, а мы успокоим всех», — говорит Христу инквизитор. Поэтому Иван хочет принять путь насильственного уничтожения мирового зла ради хотя бы того стадно-казарменного счастья людей, изображённого им в поэме, если по-другому, как кажется Ивану, невозможно устроить человечество. Но может ли человек, искренне и даже истово жаждущий добра и мировой гармонии, принять не только теоретический постулат насилия, но и практические выводы из него? Вместо гарантируемой свободы другого, навязать ему свою волю. Вот вопрос, занимавший писателя. И хотя Достоевскому чужды высказываемые Иваном идеи, он даёт высказаться своему герою в полную силу, чтобы всерьёз проверить принцип самовластного волюнтаризма, а не списать его недостатки на недостатки и пороки данного человека. То есть Достоевский решает тот же вопрос, который мучил и Чернышевского, как преодолеть наше архетипическое стремление «всё сделать силою прихоти, бесконтрольного решения» {326}.
Но поэтому вряд ли можно считать, что этим самовысказыванием Ивана, являющимся по сути своей грандиозной историософской поэмой (здесь сходятся в одной точке все три главы: «Братья знакомятся», «Бунт» и «Великий инквизитор»), завершён его образ. Ведь перед нами всё же герой романа, а не реальный мыслитель со своей самостоятельной, независимой от воли автора концепцией, и его судьба находит своё разрешение в дальнейшем движении сюжета, в поэтическом сцеплении с другими художественными образами романа. Только в этой сложной художественной системе возможно понять и оценить мировоззрение и жизненную позицию Ивана Карамазова.
В отличие от Великого инквизитора, сосредоточенного в своей идее, Иван лишь автор поэмы, эту идею художественно анализирующий. Сам он ещё не определился, «ему надо мысль разрешить», но он её ещё не разрешил. Эта его неопределённость и создаёт почву для появления двойника (Смердякова), паразитирующего на внутренней борьбе Ивана. Не случайно, что у Великого инквизитора двойников нет. Он сам лучший истолкователь выстраданного им мировоззрения. Истолкователем мировоззрения Ивана пытается стать его двойник. В столкновении Ивана со Смердяковым происходит как бы взаимное «высвечивание» обоих этих персонажей и проясняется смысл идеи «всё позволено», возможности её социального и нравственного использования.
В раннем своём романе «Двойник» Достоевский впервые попытался изобразить ситуацию, когда некоторые, причём самые худшие, желания и чувства героя могут явиться ему как живущие вполне самостоятельной и независимой жизнью. Сам Достоевский считал, что двойничество — одна из важнейших его художественных идей, с которой, однако, он в молодости не справился. В частности, трудно было понять, принадлежат ли все скверные чувства, подхваченные двойником, личностному ядру героя или являются для него чем-то наносным, внешним. Законченное социально-философское и художественное решение эта проблема получила в последнем романе писателя.