Нации и национализм после 1780 года
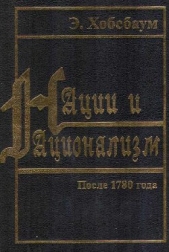
Нации и национализм после 1780 года читать книгу онлайн
Эрик Хобсбаум — один из самых известных историков, культурологов и политических мыслителей наших дней. Его работы стали вехой в осмыслении современного мира. «Нации и национализм после 1780 г.» — это, быть может, самое актуальное исследование Э. Хобсбаума для российского читателя конца 90-х годов XX века. Взвешенные и тщательно обоснованные аргументы британского ученого дают исчерпывающую картину формирования как самого понятия «нация», так и процесса образования наций и государств.
На русский язык творчество Э. Хобсбаума переводится впервые.
http://fb2.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Во-вторых, довольно часто и, пожалуй, даже в большинстве случаев, межэтнические отношения стабилизировались через постепенное развитие социально-этнического разделения труда, при котором «чужак» имеет общепризнанную функцию, и — какими бы ни были «наши» трения с его общиной, — служит для «нас» скорее дополнением, нежели выступает в роли конкурента. При отсутствии внешних препятствий подобный этнически сегментированный рынок труда формируется естественным образом, даже в эпоху западной индустриализации и урбанизации, отчасти потому, что на этих рынках обнаруживаются вакантные ниши, но главным образом по той причине, что неформальный механизм взаимопомощи, существующий у иммигрантов из определенных регионов, заполняет эти ниши друзьями, родственниками и клиентами из числа земляков. Так, в Нью-Йорке мы и сегодня ожидаем увидеть в лавке зеленщика лицо корейца, а среди работающих на небоскребах монтажников встречаем необыкновенно много индейцев-могавков; мы привыкли, что нью-йоркские киоскеры — это (как и в Лондоне) по преимуществу выходцы из Индии, а персонал индийских ресторанов — иммигранты из Силетского района Бангладеш. Если учесть, что «традиционные полиэтнические системы очень часто имеют ярко выраженный экономический характер» (Барт), то может показаться удивительным, что движения, отстаивающие свою этническую идентичность в многонациональных государствах, гораздо чаще бывают озабочены не этим видом социального разделения, но позицией их групп в свободном межобщинном соперничестве за контроль над государством. Многое из того, что принято считать проявлениями постколониального национализма, отражает обусловленную подобным соперничеством нестабильность межгрупповых отношений, которые зависят не от реального этно-экономического разделения труда и функций, но от политического равновесия (или его нарушения).
Таким образом, признаки межэтнических и межобщинных трений и конфликтов легко обнаруживаются и вне зоны первоначального распространения национализма, а потому внешне они могут вписываться в «национальную» модель. И однако следует еще раз подчеркнуть: в данном случае перед нами отнюдь не тот «национальный вопрос», о котором рассуждали марксисты и в терминах которого обосновывалось изменение государственных границ. Или, если угодно, выразимся иначе: выход национализма за пределы зоны его зарождения делает его недоступным для прежних методов анализа, о чем свидетельствует спонтанное появление новых терминов, стремящихся уловить суть этого феномена, — например, слова ethnic («этническая группа», или же то, что можно было бы назвать «национальностью»), возникшего, по всей видимости, совсем недавно. [257] Многие уже давно это поняли, хотя ранние исследователи незападного национализма, ясно сознавая, что «здесь мы сталкиваемся с феноменом, вполне отличным от национализма европейского», считали все же «бессмысленным» избегать самого термина «национализм», коль скоро он «стал общепринятым». [258] Но как бы ни обстояло дело с употреблением данного термина, феномен, к которому он относится, порождает новые проблемы в самых разных областях. На одной из них, а именно на проблеме языка, мы кратко остановимся в завершение этой главы.
Далеко не очевидно, что классическая модель языкового национализма, т. е. превращение этнического диалекта в универсальный литературный «национальный» язык, который впоследствии становится государственным, непременно сохранится и в будущем. (Даже внутри давно и прочно утвердившихся литературных языков отмечена тенденция к своеобразной «дезинтеграции» путем превращения разговорных вариантов или диалектов в возможное средство школьного обучения, — например, «негритянский („черный“) английский» или подвергшийся сильному английскому влиянию французский joual в населенных низшими классами районах Монреаля.) В практическом отношении многоязычие стало в большинстве современных государств неизбежным, — либо вследствие миграции, наполняющей буквально все западные города «этническими» колониями, либо потому, что в новых государствах сегодня в ходу столь большое количество языков, носители которых не понимают друг друга (не считая более скромных «лингва франка»), что средство национального (а еще лучше — межнационального) общения превращается в необходимость. (Предельным примером может служить Папуа Новая Гвинея с населением в 2 1/2 миллиона человек и 700 языками). Сейчас уже ясно, что в последнем случае наиболее приемлемы в политическом смысле искусственные образования, лишенные локальной этнической идентификации (например, пиджин или бахаса Индонезия), или же иностранные (предпочтительно — мировые) языки, которые не дают особых преимуществ и не причиняют ущерба ни одной местной этнической группе (как правило, это английский). Нетрудно заметить, что подобная ситуация, которая может объяснить «поразительную языковую гибкость индонезийской элиты и отсутствие у нее сильной эмоциональной привязанности к „родному языку“», [259] не похожа на то, что присуще европейским националистическим движениям. Точно так же и система современных переписей в полиэтнической Канаде отличается по своим принципам от аналогичной процедуры в старой Габсбургской империи. Ибо, прекрасно зная, что члены иммигрантских этнических групп, поставленные в ходе переписи перед выбором между этносом и канадской национальностью, непременно назовут себя канадцами, а также учитывая, сколь притягателен для них английский язык, этнические группы давления противятся включению в переписи вопросов о языковой или этнической самоидентификации, а потому вплоть до недавнего времени в переписях требовалось указывать этническое происхождение по отцовской линии, а ответы «канадец» или «американец» допускались только для индейцев. Этот искусственный «этнос переписей», на котором первоначально настаивали франко-канадцы, стремившиеся любым путем увеличить на бумаге свою численность вне провинции Квебек (главной зоны их расселения), служил также целям прочих этнических и иммигрантских лидеров, позволяя им замаскировать тот факт, что, к примеру, из 315 000 лиц, указавших на польское происхождение в переписи 1971 г., только 135 000 назвали польский своим родным языком и лишь 70 000 действительно использовали его в повседневном общении. Примерно такие же данные существуют и для украинцев. [260] Одним словом, этнический и лингвистический национализм способен в наше время двигаться в разных направлениях, и оба они могут постепенно утрачивать свою зависимость от государственной власти или связь с нею. Довольно распространенным, похоже, становится феномен, если можно так выразиться, «неконкурентного много- или двуязычия», аналогичный тем: отношениям, которые существовали в XIX веке между официальными языками государства/культуры и менее авторитетными диалектами и наречиями. И нас не должна вводить в заблуждение тенденция предоставлять местному языку тот же официальный статус, что и более распространенным общенациональным/международным языкам культуры, таким, например, как испанский (в Латинской Америке), французский (в некоторых регионах Африки) или — чаще всего — английский (последний является языком среднего образования на Филиппинах и, по крайней мере до революции, был таковым в Эфиопии). [261] Основной моделью становится теперь не борьба за безусловное верховенство, как в Квебеке, но разграничение функций, как, например, в Парагвае, где городская элита говорит и на испанском, и на гуарани, однако главным средством письменной коммуникации (за исключением, пожалуй, belles lettres [262]) остается испанский. Маловероятно, что язык кечуа, получивший в 1975 г. в Перу равный официальный статус с испанским, попытается заменить последний в качестве языка ежедневной прессы и высшего образования; и едва ли английский перестанет быть главным путем к образованию, богатству и власти в бывших африканских или тихоокеанских колониях Британии, какое бы официальное положение ни занимали в этих странах местные языки. [263] Эти мысли приводят нас к некоторым заключительным соображениям относительно будущего наций и национализма.

























