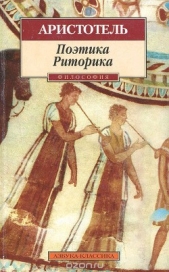Поэтика ранневизантийской литературы

Поэтика ранневизантийской литературы читать книгу онлайн
Монография рассматривает в ряде очерков, связанных сквозной идеей, основные творческие принципы ранневизантийской литературы (IV–VII вв.). В центре внимания автора — типологические черты нового, вырастающие в противоречивом контакте с наследием античности. Присущее ранневизантийским поэтам и прозаикам специфическое отношение к слову поставлено в контекст социальной и культурной истории; оно анализируется как выражение определенного взгляда на мир и на место человека в мире. Особая глава посвящена роли ранневизантийской литературы в становлении рифмы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поток примеров неудержим. Большие рыбы пожирают маленьких: не лучше богачи, угнетающие бедняков85. Полип принимает цвет камня, к которому пристает; ему подобны те, кто «угождает всякой возобладавшей власти» 8б и кто заодно сравнивается со змеей и с волками в овечьей шкуре. Обстоятельно расписываются подробности устройства пчелиных сот как образец для трудолюбца88. Муравей, собирающий пищу на зиму, должен научить христианина в этой жизни заботиться о том, что будет за гробом 89. Мораль откровенно предпочитается конкретному образу: если льстецы — это сразу и полипы, и змеи, и волки, это означает, что каждый образ сам по себе может быть заменен на другой и лишен всякой необходимости. Поэтика дидактической аллегории обнажается здесь не менее знаменательно, чем в случае с ехидной и муреной, где, напротив, один образ эксплуатировался для трех различных моральных тезисов. Василий вовсе не берет на себя ответственности за «естественнонаучное» содержание своих рассказов. «Рассказывают о горлице, что она в разлуке с супругом не терпит уже общения с другим, а ведет безбрачную жизнь в память о прежнем супруге и отказывается от нового союза»; так «рассказывают», и не важно, верен ли этот образ. Вывод, во всяком случае, сомнений не вызывает: «Пусть послушают женщины, как честное вдовство у неразумных животных предпочитается неприличному многобрачию» 90.
Не раз может показаться, что мы слышим Элиана. Однако традиция позднеантичной беллетристики— не единственная традиция, стоящая за Василием; наряду с ней должен быть назван тысячелетний опыт ближневосточной дидактики, отложившийся в Ветхом Завете. Еще раз процитируем «Книгу притчей Соломоновых».
Пойди к муравью, ленивец, посмотри на дела его и вразумись! Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни повелителя, — но он с лета готовит хлеб свой, собирает в пору жатвы корм свой!91
…Вот четыре малых на земле,
но они мудрые мудрецы:
муравьи — не сильный народ,
но с лета готовят себе корм;
горные мыши — слабый народ,
но ставят домы свои на скале;
саранча не имеет царя,
но выступает вся, как боевой строй;
лапками цепляется геккон,
но обитает в чертогах царей92.
Умные животные похвалены за трудолюбие, дисциплинированность и хитрую сообразительность — добродетели примерного ученика или усердного, осторожного писца. Так и Василий Кесарийский не забывает похвалить своих «бессловесных» персонажей за находчивость. «Никто да не сетует на свою нищету, хотя бы и ничего не оставалось у него в доме, и да не отчаивается в своей жизни, смотря на изобретательность ласточки» 93.
Но христианская дидактика имеет один мотив, который не знала ни языческая, ни ветхозаветная дидактика. Речь идет об особом смысле ядовитых животных. Думая о них, человек не только проникается отвращением к «ядовитому» нраву; он обязан устыдиться своего маловерия. Ведь Христос обещал, что люди, имеющие веру, «будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им» 94; это «знамение», по которому познается уверовавший. Тот, кому опасны змеи и скорпионы, не может явить подобного «знамения» и должен видеть в самой мысли о них укор себе. Евангельская этика требует от человека того, чего еще никто не требовал, — жить по законам чуда, и Василий, трактуя о назначении ядовитых гадов, не зыбывает выставить этот императив со всей определенностью95. Мы снова стоим перед той же загадкой, с которой имели дело в начале главы: казалось бы, требование чудотворства, как к нему ни относиться, во всяком случае, принадлежит другому уровню вещей, чем «обывательские» заповеди житейского благоразумия, — но нет, проповедующий голос, как ни в чем не бывало, продолжает в том же тоне. Обязательный, с нашей точки зрения, интонационный контраст, который отметил бы дистанцию между «низменным» и «возвышенным», между обыденной рассудительностью и высоким безумием,
ничуть не нужен ни для автора, ни для его слушателей и читателей. Одна заповедь — скажем, не сходиться с чужой женой или выбиваться из нужды честным трудом, и другая заповедь — жить по законам чуда, могут быть противопоставлены чисто теологически, как «закон» и «благодать» 96; они не подлежат противопоставлению по эстетическому признаку, как «прозаическое» и «поэтическое».
Проповеди Василия Кесарийского о днях творения были знамением времени. Они отмечают собой наступление очень долгой эпохи. И все же сам Василий еще не до конца принадлежит тому миру средневековой дидактики, в который вводит своими естественнонаучными экскурсами. Оставаясь аристократом духа, он относится к тем, кого зовет на «пир слова» 7, как взрослый к детям — конечно, без высокомерия, но с изрядной дозой снисходительности. Басенная образность — для него орудие, которым он пользуется в нужных случаях, а не дом, в котором живет его душа. Игра его ума подтверждает его свободу по отношению к этой образности. Куда простодушнее автор знаменитого «Фисиолога» («Естествослова») — продукта низовой словесности, возникшего в наиболее раннем из доступных нам изводов едва ли не близко к временам Василия98, приписанного Епифанию Кипрскому и положившего начало неистощимому варьированию мотивов животной и растительной аллегорезы, наполнившему собою все средневековье". Здесь между жанровой формой и авторской установкой не остается никакого «зазора».
Если весь мир— школа, кто в этом мире человек? Прежде всего школяр, с детской доверчивостью и детской старательностью принимающий уроки своего Учителя, а порой и терпящий удары розги; сверх того, он и сам может соучаствовать в учительстве Бога, представая перед людьми в ореоле старческой мудрости. Каков бы ни был его реальный возраст, душою он всегда дитя, а порой — дитя и старец одновременно.
Дитя и старец — фигуры, полные таинственного значения для мифологической архаики |0°. Но античную классику нормально интересует муж, воин и гражданин, находящийся в поре «акмэ», в возрасте, когда совершают «деяния». Место стариков, почитаемых за прежние «деяния» и накопленный в этих «деяниях» опыт, — на периферии мира мужей. Старик — уже не воин, как ребенок — еще не воин. Об этом поют старцы у Эсхила:
На бесславный покой обрекли нас года
И, на посох склонив, повелели влачить
Одряхлевшую плоть,
Возвратили нам давнее детство.
Ведь младенец — он старцу подобен. Еще
Не вселился Арес
В неповинное сердце, и сок молодой
Не успел забродить. А на старых дубах
Иссыхает листва… ""
Но если классическая греческая поэзия все же предлагает целую галерею старческих образов, наделенных неоспоримой значительностью, то детство оставалось вне ее кругозора. Ребенок мал, ребенок слаб, ребенок боязлив и трогателен; он не «героичен» и не «трагичен». Его место в бытии— не деятельное, а страдательное. Только с распадом классического образа человека наступает время для того влечения к сентиментальному и забавному, колоритному и незначительному, которое характерно для эллинизма. Старушка Гекала из эпиллия Каллимаха, не по летам догадливый маленький Зопирион из XV идиллии Феокрита — образы, порожденные этим влечением. Все это картинки быта, не символы бытия. Слово «идиллия» и значит по-гречески «картинка».
Совсем иной смысл придает фигуре дитяти христианская этика, эстетика, символика.
Наше восприятие притуплено двухтысячелетней привычкой, и нам нелегко восчувствовать неслыханность евангельских слов о детях. «В то время ученики приступили к Иисусу и спросили: "кто больше в царстве небесном?" Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: "истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное. Итак, кто умалится,
как это дитя, тот и больше в царстве небесном"» 102. Все привычные ценности перевернуты: единственный путь к тому, чтобы стать большим, — сделаться маленьким. Не ребенок должен учиться у взрослых— взрослые должны учиться у детей, уподобиться детям, «обратиться», повернуться к тому, от чего они отвернулись, выходя из детства. Образ дитяти— норма человеческого существования как такового. Не презрительное «величие души») ррду (цу<ppoai)vTi) классического героя, но трепетность страха и надежды ' 3, готовность все принимать как подарок и милость, ничего не считая своим, — таков новый идеал.