Хватит убивать кошек!

Хватит убивать кошек! читать книгу онлайн
Критика социальных наук — это ответ на современный кризис гуманитарного знания. Социальные науки родились как идеология демократии, поэтому их кризис тесно взаимосвязан с кризисом современного демократического общества. В чем конкретно проявляется кризис социальных наук? Сумеют ли социальные науки найти в себе ресурсы для обновления или им на смену придет новая культурная практика? В книге известного историка Н. Е. Копосова собраны статьи и рецензии, посвященные истории и современному состоянию социальных наук, и прежде всего — историографии. В центре внимания автора — формирование и распад современной системы основных исторических понятий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Четвертый очерк («Инспектор полиции разбирает свои досье: анатомия литературной республики») основан на уникальном источнике — коллекции рукописных досье, составленных полицейским Жозефом д’Эмри на приблизительно 500 французских «литераторов» середины XVIII в., включая Вольтера, Дидро, Руссо. Этот источник, фиксирующий элементарные биографические сведения и «истории», происходившие с литераторами, а также содержащий оценки их поведения, а иногда и творчества, позволяет сделать своего рода социологическую зарисовку «литературы» середины XVIII в. и показать, сквозь призму полицейского контроля, как в эпоху Просвещения постепенно возникал тот характерный тип «властителя дум», который известен нам под именем французского интеллектуала. Как и многие французы этой эпохи, интеллектуал, еще не оформившийся социальный тип, находился тогда порой на грани социального, а то и физического выживания, и зависел от системы патроната. За блестящим фасадом Просвещения процветали доносы, отношения клиентел и разыгрывались закулисные коммерческие войны.
Пятый очерк («Философы подстригают древо знаний: эпистемологическая стратегия „Энциклопедии“») посвящен предложенной Дидро и Д’Аламбером классификации знаний. Такие классификации, чрезвычайно популярные в XVII–XIX вв., представляли собой символический язык, позволяющий подчеркнуть сравнительную важность тех или иных видов знания и, следовательно, носили идеологический характер. Так, для энциклопедистов важнейшим демаршем служила маргинализация религии, вплоть до ее вынесения за границы знания вообще. Это было сравнительно безопасной, но радикальной критикой религии: за счет своей систематичности «Энциклопедия» навязывала читателю такую систему эпистемологических координат, которая ставила «философов» на место духовенства в качестве главных хранителей знания. Энциклопедисты, буквально по Бурдье, покорили «мир знаний, нанеся его на карту» (с. 245).
Последний очерк («Читатели Руссо откликаются: сотворение романтической чувствительности») основан опять-таки на оригинальном источнике — комплексе писем ларошельского негоцианта Жана Рансона, библиофила и поклонника Руссо, к своему бывшему учителю — невшательскому издателю и книготорговцу Остервальду, у которого Рансон в течение двух десятилетий заказывал книги и с которым систематически делился впечатлениями о прочитанном и вообще размышлениями о жизни. Эту переписку автор сравнивает с сохранившимся комплексом читательских писем к Руссо — откликами на «Новую Элоизу». Главная проблема очерка — характерный для XVIII в. тип «руссоистского читателя», т. е. читателя, с непосредственностью воспринимающего моральные уроки литературы и стремящегося выстраивать свою жизнь в соответствии с ними. Анализ отношения Рансона к текстам Руссо позволяет Дарнтону усомниться в принятой среди историков книги гипотезе, будто в XVIII в. произошел переход от «вдумчивого чтения» ограниченного количества книг, доступных в предшествующие эпохи, к «пробеганию глазами» массовой литературы, свойственному современности. Это подчеркивает квази-этнографическое «своеобычие», «непонятность» культуры XVIII в., и не случайно, что глава о «руссоистском читателе» начинается с беглой зарисовки «странных практик» обращения с книгой среди балинезийских аборигенов.
Таково вкратце содержание книги. Повторяю, при всей фрагментарности она производит довольно целостное впечатление. На чем оно основано?
Этот вопрос тем более важен, что речь идет о манере письма, в 1980-е гг. смотревшейся едва ли не революционно, а сегодня принятой достаточно широко, в том числе и среди отечественных гуманитариев. В историографии такое письмо обычно принято связывать с микроисторией — переходом от изучения глобальной социальной истории к «микроскопическому» изучению локальных мирков, отдельных событий и эпизодов частной жизни, а также к монографической разработке отдельных источников. «Антропологическая» ориентация истории, за которую ратует Дарнтон, сближает «Великое кошачье побоище» с микроисторией — и по материалу, и по способу анализа. Не случайно в заключении, подводя методологические итоги книги, Дарнтон призывает к отказу от объективирующей количественной «истории ментальностей» 1960–1970-х гг. (с. 300). Собственно, именно полемика с социальной историей школы «Анналов» (и с тенью марксизма за ней) представляет сверхсмысл книги. В 1984 г. такая полемика звучала многообещающе.
Она и создает единство книги Дарнтона. Крестьяне рассказывают плутовские сказки вместо того, чтобы морально готовиться к жакериям эпохи «великого страха», ремесленники в порыве ненависти к хозяевам охотятся за кошками, буржуазия кушает кофей, а просветители ищут милости патронов — каждый штрих в этой картине наделен смыслом постольку, поскольку отрицает соответствующий элемент привычной социальной истории. В этой последней крестьянам было положено пахать землю и жечь замки, ремесленникам — превращаться в революционный пролетариат, буржуазии — читать Руссо и готовиться к штурму Бастилии, а просветителям — «давить гадину». Порой Дарнтон прямо противопоставляет свой анализ подобным ожиданиям относительно поведения его героев:
«Возможно, непристойные подробности сказок и вызывали у многих слушателей XVIII в. утробный смех, однако внушали ли они крестьянину непоколебимую готовность к ниспровержению общественного строя? Едва ли. Есть все же некоторая дистанция между скабрезной шуткой и революцией. Между крепким галльским словцом и Жакерией» (с. 73).
Соответственно и избиение мастеровыми кошек показывает «те пределы, которыми ограничивалась воинственность трудящихся в дореволюционной Франции» (с. 122).
Антропологически ориентированная история культуры, поглощенная раскрытием внутреннего смысла символов прошлого, может только негативным способом сложить внятное целое из мозаики своих исследований, а именно отрицая отдельные элементы глобальной социальной истории. Внутренние связи в новой истории культуры присутствуют постольку, поскольку между отрицаемыми элементами глобальной истории уже были установлены знакомые читателю связи. Ведь даже те социальные категории, которые создают впечатление внутренней последовательности очерков Дарнтона, — это категории старой социальной истории (крестьяне, ремесленники, буржуа, чиновники, интеллектуалы).
Понятно, что такого рода связи между составляющими новой истории культуры благоразумнее не эксплицировать. С этой задачей Дарнтон справляется артистично: легкая недоговоренность создает шарм книги. Сказать, что все дело в отрицании старой схемы, означало бы сделать книгу банальной, тем более что в ответ всегда можно было получить вопрос: а что же вместо? Отсюда особая тональность суггестивных недоговорок, удачно вписанная в легкий, остроумный, ироничный стиль книги, которому противопоказаны точные и последовательные теоретические рассуждения, достойные систематического трактата, но не изящных эссе. По-видимому, в завуалированном, но все же прозрачном отрицании глобальной истории — одна из важных составляющих успеха книги Дарнтона (что никак не снимает ценности конкретного анализа текстов и интересных частных находок, которые сами по себе, однако, едва ли бы сделали его книгу классикой новой истории культуры). Работа Дарнтона появилась в тот момент, когда новая история культуры только рождалась, и поэтому полемика с социальной историей видна в ней столь отчетливо. В последующих работах новых историков культуры эта ясность оказалась утраченной, а проблема обобщения встала более навязчиво.
Когда же автор изменяет своему стилю недоговорок, он рискует попасть в неловкое положение. В рецензируемой книге это произошло лишь однажды, в первом очерке. Желая показать, что французские сказки действительно выражают конкретный социальный опыт крестьянства, а не просто черты «примитивной ментальности», Дарнтон, в частности, прибегает к их сравнению со сказками немецкими. Сравнение дает следующий результат:
«Если французские сказки обычно реалистичны, приземлены, непристойны и смешны, то немецкие тяготеют к показу сверхъестественного, к поэтичности, экстравагантности и насилию» (с. 64).
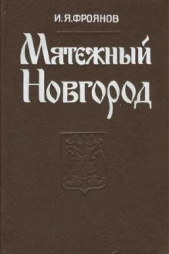




![Красный вал [Красный прибой]](/uploads/posts/books/39985/39985.jpg)




















