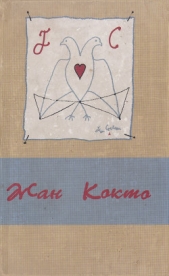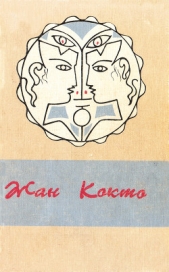Эссеистика
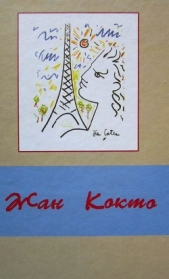
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потому что из-под зоркого критического ока выйдет одна сушь. Откуда взяться драматизму? Или мечте? Откуда берется эта тень, которую они называют магией?
Нет ни магии, ни зоркого ока. Только много любви и много работы. Относительно этой стороны души они заблуждаются, так как привыкли, с одной стороны, к метроному Вольтера, а с другой — к ореховому пруту Руссо. Возможно, что шаткое равновесие между этими двумя крайностями — победа современного разума, и критикам стоило бы исследовать эту зону, спуститься в ее недра, смириться с неизведанным.
Об ответственности
Но вот странное ощущение тупика сковывает меня по всем четырем сторонам моего естества и завязывается в узел посередине. То ли это внезапная жара, то ли гроза, то ли одиночество, или даты представления пьесы выбраны неудачно, а может, перспектива остаться без дома, а то и просто эта книга не хочет уходить. Я знаю эти приступы смутной тревоги, они часто со мной приключаются. Нет ничего труднее, чем вписать их в какие-либо контуры, которые позволили бы смотреть на них в упор. С той самой минуты, как такое болезненное состояние возникает, мы в его власти. Оно не дает нам читать, писать, спать, гулять, жить. Оно нагнетает вокруг нас смутные угрозы. Все, что было открыто, закрывается. Все, что помогало, покидает нас. Все, что нам улыбалось смотрит ледяным взором. Мы не отваживаемся ничего предпринять. Рождавшиеся было замыслы чахнут, пугаются, мешают друг другу. Всякий раз я попадаюсь на удочку этим посулам судьбы, которая манит нас только затем, чтобы потом эффектней повернуться спиной. Всякий раз я говорю себе, что достиг тихого края, что дорого заплатил за право скользить по плавному склону, вместо того, чтобы лететь вниз в кромешной тьме.
Но едва только я даю убаюкать себя этой иллюзии, как тело призывает меня к порядку. Оно включает одну из красных лампочек, которые означают «Осторожно». Муки, которые, я полагал, меня оставили, возвращаются негодуя, подобные тому, кто только сделал вид, что ушел, и злится пуще прежнего из-за того, что самому себе показался смешным. У меня ноют веки, виски, шея, грудь, плечи, руки, фаланги пальцев. И снова начинается морзинский фарс. Я чувствую себя лучше — и болезнь тоже набирает силу. Похоже, она решила взяться за слизистую, за десны, горло, нёбо. С механизма в целом болезнь перебралась в его середину и разъедает его изнутри. Струпья тоски, язвы горести, лихорадка отчаянья — это лишь поверхностные, хотя и мучительные признаки. Они быстро разрастаются до ощущения тошноты, которую мы объясняем воздействием извне. Но, похоже, именно наше состояние сообщает оттенок окружающему миру, в то время как мы убеждены, что перенимаем его извне. Подобная неразбериха еще больше мутит все внутри и снаружи. Жизнь начинает казаться нам неразрешимой, слишком просторной, слишком тесной, слишком длинной, слишком короткой. В былые времена я смягчал эти часто повторяющиеся приступы опиумом, совершенно эйфорическим средством. Но вот уже десять лет, как я от него отказался — из честности, которая, возможно, не более чем глупость. Я не хотел иметь другой опоры, кроме себя самого, что, в сущности, лишено смысла, потому что мы являемся тем, что едим. Короче, мне ничего другого не остается, как терпеть эти приступы и ожидать развязки.
Кризис, в котором я пребываю со вчерашнего дня, дал о себе знать две недели назад, когда мои боли вдруг усилились. Хотелось бы верить, что виновата в этом еще и тяжелая атмосфера, предвещающая грозу. Вот уже пять минут, как на улице беснуется ветер и хлещет дождь. Помню один абзац из «Истории» Мишле {136}, где он радуется, что нечувствителен к буре, бушующей за окном. Наоборот, она его умиротворяет, он видит в этом ритм природы. Порывы ветра сулят ему хорошую погоду. Какую еще хорошую погоду? Я не понимаю. Я хотел бы быть собственным настройщиком и заново натянуть нервы, которые расстраивают мне жара и мороз. Да что я говорю? Малейшее повышение внутренней влажности или температуры духа.
Может, надо завидовать великим людоедам а-ля Гёте или Гюго, эгоизм которых сходит за героизм, а чудовищные фразы вроде «Всегда вперед, через могилы» вызывают восхищение? Именно так Гёте отреагировал на известие о смерти сына. Что толку завидовать им или не завидовать? Ставки сделаны. Я не превозношу ни себя, ни их за то, что одни слеплены из одного теста, другие — из другого.
Я прихожу к выводу, что скиталец я только потому, что так устроен. Место, о котором я мечтал, куда спрятался как в убежище, вскоре превращается для меня в западню. Я сбегаю оттуда, история повторяется. Достаточно, чтобы я нашел себе новое пристанище — на моем пути сразу же встают бесчисленные препятствия, все мешает мне подписать контракт.
Нет ничего устойчивей того ритма, который ведет нас и о котором мы думаем, что он подчиняется нашей воле. Взлет обманчив. В него маскируется провал. Он никогда не является в одном и том же обличье. Сколько бы мы его ни караулили, все равно не узнаем.
Книга, которую я пишу, завершила она или нет свою траекторию? Я, который даже на этих страницах хвастаюсь тем, что никогда о таких вещах не заботился, потому что о конце меня оповещает толчок, — я впервые задумался. Смогу ли я и дальше говорить с вами, писать этот дневник, который и дневником-то не назовешь, — и рассказывать о том, что со мной происходит? Это значило бы насиловать механизм. Это значило бы писать не эту книгу, которая рождается сама собой, а другую, насильственную. Я поддаюсь на хитрость вокзальных перронов, где бежишь вслед за поездом, вскакиваешь на подножку, лишь бы оттянуть момент обрыва нити, которая опутывает наше сердце и сердце того, кто уезжает. Меня раздирают тяга к привычному и фатальная необходимость разрыва. Ведь я представлял нас вдвоем, молодыми, каким я сам был когда-то, остановившимися на углу улицы, сидящими в сквере, лежащими ничком на кровати или опирающимися локтем о стол и болтающими обо всем на свете. А теперь я вас покидаю. Но покидаю, разумеется, не совсем, потому что настолько слился с чернилами, которыми пишу, что передал им мой пульс. Разве вы не чувствуете его большим пальцем, прижимающим уголок страницы? Меня бы удивило, если бы не чувствовали, потому что его биение передается моему перу и производит ни на что не похожий шум — бешеный, ночной, причудливый: ритм моего сердца, записанный и звучащий в «Крови поэта». «Поэт умер. Да здравствует поэт». Именно это кричат его чернила. Именно это глухо отбивают его барабаны. От этого горят траурные свечи. И от этого пульсирует ваш карман, в который вы положили мою книгу, а прохожие оборачиваются и пытаются понять, что там за шум. В том и состоит разница между книгой, которая не более чем книга, и этой книгой, которая есть превратившийся в книгу человек. Он стал книгой и взывает о помощи, чтобы кто-нибудь разрушил чары и помог ему воплотиться в личность читателя. Именно этого фокуса я от вас и жду. Поймите меня правильно. Это не так трудно, как кажется на первый взгляд.
Вы достаете книгу из кармана. Читаете. Если у вас получится читать так, чтобы ничто не отвлекало вас от текста, то вскоре вы почувствуете, что я вошел в вас; вы вернете меня к жизни. Вы даже рискуете неожиданно повторить какой-нибудь мой жест или глянуть моим взглядом. Само собой, я говорю о молодежи того времени, когда я перестану существовать во плоти и кровь моя перестанет быть чернилами.
Мы с вами заодно. Помните, как важно, чтобы мои палочки и крючочки, превратившиеся в печатные буквы, вновь обрели через вас свои изгибы и распрямили их, мгновенно переплетя наши линии так, чтобы мое тепло слилось с вашим теплом.
Если вы будете дословно исполнять мои указания, то произойдет частичное смешение, и эта довольно невзрачная шкатулка, то бишь книга, перестанет быть только книгой, потому что в силу вступит договор о взаимопомощи, согласно которому живой помогает мертвому, а мертвый — живому. Вы дадите мне столько же, сколько от меня получите. И не будем больше к этому возвращаться.